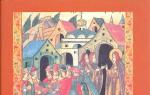Самые дорогие картины,созданные женщинами. Русские художники - наталия гончарова
В Москве, впервые за сто лет, проходит масштабная выставка художницы Натальи Гончаровой, на которой собрано более 4-х сот работ из музеев мира. Мечтала побывать на выставке и побывала.
Выставка проходит в помещении Третьяковской галереи на Крымском валу. Здесь представлены картины Гончаровой, датируемые началом прошлого века, и картины середины века, т.е.картины. написанные почти перед уходом художницы из жизни. Интересно просматривается эволюция мастерства, метания по различным стилям, группам и жанрам, смена цвета красок и тем.
 Наталью Гончарову называли "амазонкой русского авангарда". Представительница древнего рода Гончаровых, двоюродная правнучка жены Александра Сергеевича Пушкина, своей тёзки Натальи Гончаровой, художница оставила яркий след в мировой живописи. Её картины находятся во многих музеях мира, частных коллекциях, многими картинами могут похвалиться и наши, отечественные, музеи. Богатой коллекцией картин Натальи Гончаровой обладает и Третьяковская галерея, представившая свои залы для первой за последних сто лет выставки. Наталья Сергеевна Гончарова родилась 4 июня 1881 года в Ладышино, недалеко от Тулы, в семье московского архитектора Сергея Михайловича Гончарова и Екатерины Ильиничны, урождённой Беляевой.. С детства Наталья проявила рисовальные способности, но учиться начала сначала на скульптора в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в классе П.Трубецкого, Так как живопись больше привлекала девушку, она переводится в класс Константина Коровина, который и оканчивает в 1902 году. Как и все молодые художники того времени, Гончарова меняет стили и жанры, отрицая старую школу - куббизм, лучизм, беспредметная живопись, примитивизм, даже лубок, иллюстрирование книг, создание театральных костюмов и декораций, участие в модных показах и роспись тканей, различные живописные циклы - такова многогранная палитра художницы.
Наталью Гончарову называли "амазонкой русского авангарда". Представительница древнего рода Гончаровых, двоюродная правнучка жены Александра Сергеевича Пушкина, своей тёзки Натальи Гончаровой, художница оставила яркий след в мировой живописи. Её картины находятся во многих музеях мира, частных коллекциях, многими картинами могут похвалиться и наши, отечественные, музеи. Богатой коллекцией картин Натальи Гончаровой обладает и Третьяковская галерея, представившая свои залы для первой за последних сто лет выставки. Наталья Сергеевна Гончарова родилась 4 июня 1881 года в Ладышино, недалеко от Тулы, в семье московского архитектора Сергея Михайловича Гончарова и Екатерины Ильиничны, урождённой Беляевой.. С детства Наталья проявила рисовальные способности, но учиться начала сначала на скульптора в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в классе П.Трубецкого, Так как живопись больше привлекала девушку, она переводится в класс Константина Коровина, который и оканчивает в 1902 году. Как и все молодые художники того времени, Гончарова меняет стили и жанры, отрицая старую школу - куббизм, лучизм, беспредметная живопись, примитивизм, даже лубок, иллюстрирование книг, создание театральных костюмов и декораций, участие в модных показах и роспись тканей, различные живописные циклы - такова многогранная палитра художницы.
Естественно, каждый стоял у тех картин, которые особенно пришлись ему по душе, для меня таковыми стали картины в примитивном стиле, больше похожие на обыкновенный лубок - бабы и мужики с не очень внятными лицами, в национальной российской одежде, наши, родные знакомые нам люди, простые и работящие: сеют, жнут, стирают и белят холсты, убирают урожай, в общем, все при деле и при месте.

Цветы у Гончаровой были всегда, они нарисованы и реалистично - милые букетики в вазах, и абстрактно, и звёздно. но все ярко и весело, стоишь возле лучистых лилий и угадываешь их очертания, или пытаешься различить прекрасные орхидеи, ипи отдыхаешь душой возле деревца в уголке сада, но не отходишь равнодушным. Милая девушка с букетом лилий - это автопортрет художницы.

Не только цветы, но и животные интересуют Наталью Гончарову, вот забавные петухи - французский и с мальчиком.


А попробуйте разглядеть в этих лучистых кубиках всеобщую домашнюю любимицу - милую кошечку!

Интересны и городские картинки - "Велосипедист",

"Аэроплан над подъездом",

Настоящее сегодняшнее и ангелы с ним - "Ангелы и аэропланы".
"Испанки" - этот цикл приковал нас к себе надолго, ходили, смотрели, глаз оторвать не могли. Все разные, колоритные, гордые, в мантильях и с гребнями, видно и художница полюбила этих южных красавиц и возвращалась к их образам снова и снова!





Всю жизнь Наталья Гончарова прошагала рука-об-руку с Михаилом Ларионовым. Познакомились они в 1900 году на одной из выставок за границей, почти всё время прожили в гражданском браке, в основном в Париже, оформив свои отношения почти в конце жизни. Ларионов пережил жену всего на два года, уйдя из жизни в 1964 году.



Таким Ларионов был в жизни, а так видела любимого человека Гончарова.
На выставке более 4-х сот картин, все показать невозможно, да и нет необходимости, всегда можно зайти на галерею картин и посмотреть всё, что хочешь. На выставках у нас фотографирование запрещено. поэтому все представленные взяты из сети с разных сайтов. Возможно. я вернусь ещё к этой выставке, отдельно поставив картины из религиозного цикла, театральные работы и книжную графику. всё это тоже очень интересно.
М.: Литография В. Титяева, . 39 л. Тираж 220 экз. На издательской обложке, исполненной в технике коллажа, две наклейки: текст: Мiрсконца /А. Крученыхъ/В. Хлебниковъ и по центру: коллаж из цветной бумаги Н. Гончаровой [цветок]. 18,7x15 см. Все литографии (тушь) отпечатаны на одной стороне листа. Литографированный коллективный сборник русских футуристов. Здесь Наталья Сергеевна Гончарова (1881-1962) выступила в роли создателя первого в мире книжного коллажа. Именно в этом и заключается ценность данного литографированного издания.









Обложка, вверху - внизу текст:
Мiрсконца /А. Крученыхъ/В. Хлебниковъ;
по центру: коллаж из цветной бумаги Н. Гончаровой [цветок].
Самое интересное в этом сборнике - на обложке впервые был помещен коллаж. Такой неординарный прием в оформлении книги применила Наталия Гончарова. Наклейка из цветной бумаги в форме цветка занимает главенствующее место на пространстве обложки. Сегодня известно около 12 различных вариантов обложки этого издания. На всех экземплярах книги коллажи существенно отличаются. В их оформлении использована бумага нескольких видов, чаще всего черного, зеленого или золотистого цвета, с тисненым узором и узором под мрамор. Сам цветок тоже меняет формы и располагается то в нижней, то в верхней части листа. Коллаж - технический прием в искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Коллажом называют также произведение, выполненное этим приемом. Его применяют главным образом в графике и плакате ради усиления эмоциональной выразительности фактуры произведения, неожиданности сочетания разнородных материалов. Как формальный эксперимент коллаж был введен в живопись представителями кубизма, футуризма и дадаизма. А позднее, уже в 20-е-40-е годы, ярко проявил себя, как художественный прием фотомонтажа, в плакате.





М. Ларионов. Вверху текст: Как трудно мертвых воскрешать...;
концовка: рис. [лучистская композиция];
внизу: слева: Литографiя / В. Титяева Москва, справа: М. Ларiонов

М. Ларионов. [Дама за столиком], вверху справа: Ларiоновъ

М. Ларионов. [Ахмет], слева от изображения: АХ/ME;
внизу: слева: лит. В. Титяева / Москва; справа: Ларiонов

Текст: АХмЕТ/ ЧАШУ дЕржеТ...

М. Ларионов. [Уличный шум], вверху справа: Ларiоновъ. М.

М. Ларионов. Текст: Куют хвачи черные мечи...

М. Ларионов. [Профиль человека и звуки], вверху справа: Ларiоновъ;
в изобр. включены буквы: 033

Н. Гончарова. Текст стихотворения “при гробовщике” (рат та тат...);
справа и внизу под текстом: рис. [цветы]; внизу справа монограмма: НГ

Н. Гончарова. Текст стихотворения “сон” (майки сидят...);
справа и внизу под текстом: рис. [цветы].

Н. Гончарова. [Городской пейзаж], под изображением справа: Наталья Гончарова.

Н. Роговин. [Корова, лодка с гребцами, собака и человеческое лицо].

Н. Роговин. [Фигуры], справа: Н Роговин.

Н. Гончарова. [Сидящая женщина с растрепанными волосами], внизу слева: Гончарова.

А. Крученых. Текст: они знай делают прощаюсь положил бы я на плечо...;
по центру: рис. Н. Гончаровой [олень].

Н. Гончарова. [Скелет под деревом], внизу справа: Наталiя Гончарова.

Н. Гончарова. [Рычащий зверь], внизу слева: Н Гончарова

А. Крученых. Текст: но тогда земля помертвела и сморщиласъ...;
по центру: рис. Н. Гончаровой [парусные лодки].

Н. Гончарова. [Звери под деревом], внизу слева: Н. Гончарова.

Н. Гончарова. Текст: спаси ножницы рЪжут...;
по центру: концовка [цветок], справа: Гончарова;
под изобр.: веceлie / вeceлie.

Н. Роговин. Текст: О Достоевскiй / мо; слева от текста и внизу справа:
рис. [человеческие фигуры].

М. Ларионов. [Петух и нож], слева от изобр. по краю листа: Ор. № 8в;
Вверху слева: Ларiонов, под изобр. текст (в зерк. отраж.):
Наш кочетъ очень озабочен...

М. Ларионов. [Человеческие фигуры],
Слева от изобр. по краю листа: Ларiоновъ,
под изобр. текст: Вселеночку зовут мip ея полудЪти...

М. Ларионов. Текст: Из пЪсен гайдамаков...;
концовка [летящая птица с веточкой в клюве], справа внизу: Ларiоновъ

Н. Гончарова. [Солдаты], внизу справа: Наталiя Гончарова.

Н. Гончарова. [Вила и Леший].

Н. Гончарова. Текст: Из “Вилы и ЛЪшаго”...;
справа на полях и внизу под изобр.: рис. [цветы]; вверху справа: НГ.

Н. Роговин. Текст: Стрелок чей стан был узок...; справа на полях: рис. [Диана].

М. Ларионов. Текст: Будьте грозны как Остраница...;
концовка [лучистский рисунок], внизу справа: МЛ

М. Ларионов. Текст: MIP С КОНЦА...;

Спинка обложки, внизу слева типограф, способом: цена 70 коп.
Библиографические источники:
1. Поляков, № 16;
2.
The Russian avant-garde book/1910-1934 (Judith Rothschild foundation, №14),
р. 88-89;
3. Марков. с. 41-42;
4. Хачатуров. с. 88;
5. Ковтун, 2;
7. Compton. р. 12, 19, 72-74; 90-92, col. pi. 2-3;
8. Розанов, № 4881;
9. Жевержеев, 1230;
10. Кн. л., № 33950;
11. Рац, 59;
12. Тарасенков. с. 197;



Первый коллективный литографированный сборник русских футуристов. Кроме рисунков литографированным способом были воспроизведены поэтические и прозаические отрывки Хлебникова и Крученых (в описании указан автор художественного решения страницы). Некоторые из них напечатаны А. Крученых с помощью детской наборной азбуки (в описании отмечены звездочкой). Спинки обложки из плотной бумаги, листы текста и иллюстрации напечатаны на тонкой глянцевой бумаге.

Н. Роговин (Николай Ефимович). Живописец и график.
Жил в Москве на Остоженке, в своем доме.
Был близок к кругу М.Ф. Ларионова.
Участвовал на выставках «Бубновый валет» (1910-1911),
«Союз молодежи» (1911), «Ослиный хвост» (1912), «Мишень» (1913).
В советское время область его интересов смещается в архитектуру.
Рисунки Ларионова и Роговина выдержаны в примитивистской манере, особенно обращает на себя внимание попытка использовать выразительные возможности первобытного и детского искусства (л. № 5, 28, 30). Ларионов наряду с примитивистскими листами дает примеры “лучистского” стиля (л. № I, 3, 7 и др.). Интересен также первый опыт Татлина в иллюстрировании книги. Изображение циркового номера с отрубанием головы, целиком построенного на стремительных “грозных” линиях, оказалось очень удачным эквивалентом знаменитым строчкам Хлебникова “Будьте грозны как Остраница...”. Ларионовский лист № 9 воспринимается иллюстрацией к строчкам из стихотворения поэта Лотова, приведенных Ларионовым в сборнике “Ослиный хвост и Мишень” (“Оз з з з з з з о”, с. 140). Наибольшее количество рисунков принадлежало Н. Гончаровой. Кроме постраничных иллюстраций к “Путешествию вокруг света” Крученых она создала ряд орнаментальных рисунков (например, л. № 10 и 11), “декорирующих” страницу с текстом. Сборник был опубликован, по всей видимости, в конце ноября, так как в “Книжной летописи” он отмечен в первой декаде декабря. Первая “рецензия” на книгу также вышла в декабре [Синий журнал]. Обложка каждого экз. вместо рисунков была украшена наклейкой из цветной бумаги, исполненной Н. Гончаровой. Встречается бумага трех видов: чаще всего черного цвета(как и в описываемом экз.), зеленого (колл. Cl. Leclanche-Boule, Париж) и золотого, с тисненым узором. В собрании Музея современного искусства в Нью-Йорке находится 5 экз. сборника с различно решенной обложкой, в одном случае коллаж исполнен из бумаги с так называемым мраморным узором. Сама наклейка по форме напоминает цветок. В ней ясно обозначены чашечка цветка, стебель и направленные в разные стороны листья. В нашем случае “цветок” расположен по диагонали и своим силуэтом напоминает детский бумажный кораблик (симметрично расположенные “листья” даны единой массой), он помещен под наклейкой, на которой напечатан заголовок. Другой вариант [Ковтун, Compton] предполагает иное решение: “цветок” расположен в верхней части обложки, над заглавием, и его форма подчеркнуто вертикальна. Известны три подготовительных рисунка Н. Гончаровой к литографиям № 22,24 и 34, находятся в частном собрании в Москве. Экземпляр, принадлежавший В. Барту, находится в РНБ. Часть литографий Гончаровой и Ларионова из этого сборника была отпечатана на плотной бумаге и включена в сборник “16 рисунков Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова”.

Несхожесть творческих принципов Ларионова и Гончаровой не мешала обоим художникам выступать совместно. Первый опыт такого рода и был осуществлен ими в сборнике А. Крученых и В. Хлебникова “Мирсконца”. В нем также принимали участие Н. Роговин и В. Татлин, но основная часть рисунков принадлежала Ларионову и Гончаровой. Ларионовские рисунки отличались наибольшим стилистическим разнообразием. Рядом с лучистскими “Уличным шумом” и “Дамой за столиком”, с выдержанным в духе “инфантильного” примитивизма знаменитым “Ахметом” были помещены и две композиции, свидетельствовавшие о максимальном приближении художника к миру первобытных образов. Обе они вызывают живейший интерес со стороны исследователей и зачастую трактуются ими как бесспорное свидетельство усиленных археологических “штудий” художника. По мнению Э. Партона, именно археологическим интересам ларионовский примитивизм обязан своим развитием. Первый рисунок представляет собой примитивно трактованный профиль поющего человека с вытянутой нижней челюстью и обозначенными - в виде букв “033” - звуками, вылетающими изо рта. Партон прочитывает его как изображение первобытного шамана, под воздействием вселившегося в него духа меняющего свой облик. Второй рисунок состоит из схематически трактованных фигурок, обозначающих бегущих людей. Полосы, которые в беспорядке прочерчены по всему полю страницы, воспринимаются и Э. Партоном, и С. Комптон в качестве имитации характерных для наскальной живописи насечек. Опора на первобытную “иконографию” в этих работах Ларионова бесспорна - достаточно взглянуть на помещенный во втором рисунке силуэт женской фигуры с типичными для палеолитического искусства “обрубленными” конечностями. Но с другой стороны, невозможно совершенно игнорировать, как это делают оба исследователя, и тот факт, что рисунки являются иллюстрациями, связанными с конкретными стихотворениями. Так, в первом случае - рисунок ассоциативно соотносится со строчками Крученых:
Стучат из внутри староверы огнем кочерги - из его отрывка “Куют хвачи черные мечи...”.
Вторая композиция связана с небольшим фрагментом Хлебникова, начало которого:
Вселеночку зовут мирея полудети и умиратище клянут -
помещено на самом листе сбоку от изображения. Зашифрованное в этих строчках видение надвигающейся смерти находит свое продолжение в рисунке Ларионова - в падающих с неба звездах, в “грохоте мечей”, изображенных в левой части композиции, в свисте пуль, полет которых обозначен пересекающимися линиями, и т.д. Второе место по количеству рисунков в сборнике принадлежало Н. Гончаровой. Художница проиллюстрировала прозаический отрывок Крученых “Путешествие по всему свету”. Кроме постраничных рисунков, объединенных в традиционную для нее “серию”, надо также отметить две страницы текста, в которые включено: в первом случае - изображение оленя, во втором - плывущих по реке парусных лодок. В отличие от “Игры в аду”, где изображение и текст, встречаясь на одной странице, вступали друг с другом в конфликтное сосуществование, здесь мы находим пример более гармоничного решения. Одна из причин этого заключается в том, что рисунки, помещенные в тексте, были лишены темного фона, их линии оказывались, таким образом, в одной плоскости со строчками текста. Сыграло свою роль и то, что рисунки, как и весь сборник в целом, были исполнены тушью, которая предопределила их штриховой характер.
С. Красицкий. О Крученых. В начале славных дел.
Жижа сквернословий
мои крики самозваные
не надо к ним предисловья
я весь хорош даже бранный!
А. Крученых о себе
Ты из нас самый упорный, с тебя пример брать.
Б. Пастернак
 «Бука русской литературы», «enfant terrible» русского футуризма, «футуристический иезуит слова», Алексей Крученых - одна из ключевых фигур и, пожалуй, самый последовательный в своих радикальных устремлениях деятель русского авангарда. Можно с уверенностью утверждать, что никто из русских литераторов XX века не встретил среди современников такого стабильного непонимания, не подвергался такой уничижительной критике и, в конечном счете, такой несправедливой оценке, как Крученых. Притом это непонимание (или демонстративное непризнание), при очевидном интересе к деятельности поэта, не было лишь сиюминутной, быстро прошедшей реакцией, а растянулось на несколько долгих десятилетий и, по сути, охватило несколько литературных эпох. Впрочем, такого рода «реакция отторжения» вряд ли объяснима лишь идеологическими причинами (как это было в советский период), но обусловлена и многими имманентными свойствами творчества Крученых, той принципиально «крайней» позицией, которой он придерживался на протяжении своего более чем полувекового творческого пути. Репутация безнадежного маргинала, неутомимого графомана, непреодолимого экспериментатора, исступленного полемиста, который, казалось, не мыслил своего пребывания в искусстве вне состояния перманентного спора и ниспровержения авторитетов (что зачастую создавало впечатление абсолютной самодостаточности этого спора, так сказать, спора «как такового») все это делало позицию Крученых весьма уязвимой и как бы предназначенной для осуждения, осмеяния, неприятия. Без напряженного желания понять, вникнуть в суть, смысл, пафос творчества поэта, без «методологического доверия» (по выражению П. Флоренского) к деятельности автора, столь необходимого при обращении к литературному наследию Крученых (в силу исключительной специфики материала), без осознания того, что к его поэзии невозможно подходить как к «просто поэзии», так как при чтении необходимо учитывать множество дополнительных условий, вырабатывая тем самым особую методику чтения, - без всего этого действительно невозможно более или менее адекватное восприятие феномена Крученых. И в этом смысле реакция большинства критиков на творчество «дичайшего» (по самоопределению) из поэтов представляется в целом естественной и закономерной. Однако сейчас, при возможности более целостного рассмотрения пути русской литературы (или какой-то, весьма значительной, ее части) в XX веке, вплоть до наиновейших тенденции, становится очевидным не только самодостаточный характер поэтических экспериментов Крученых как историко-культурного явления определенного периода, периода классического русского авангарда, но и безусловно перспективный, а в чем-то и провидческий характер его деятельности. Это касается и влияния, прямого или опосредованного, на творчество поэтов последующих поколении, и того факта, что Крученых одним из первых поставил и по-своему пытался разрешить вопрос о совершенно новых принципах существования литературы как искусства слова в контексте реалий, возникших именно в XX веке, о взаимоотношениях литературы с другими видами искусства и иными областями человеческого бытия.
«Бука русской литературы», «enfant terrible» русского футуризма, «футуристический иезуит слова», Алексей Крученых - одна из ключевых фигур и, пожалуй, самый последовательный в своих радикальных устремлениях деятель русского авангарда. Можно с уверенностью утверждать, что никто из русских литераторов XX века не встретил среди современников такого стабильного непонимания, не подвергался такой уничижительной критике и, в конечном счете, такой несправедливой оценке, как Крученых. Притом это непонимание (или демонстративное непризнание), при очевидном интересе к деятельности поэта, не было лишь сиюминутной, быстро прошедшей реакцией, а растянулось на несколько долгих десятилетий и, по сути, охватило несколько литературных эпох. Впрочем, такого рода «реакция отторжения» вряд ли объяснима лишь идеологическими причинами (как это было в советский период), но обусловлена и многими имманентными свойствами творчества Крученых, той принципиально «крайней» позицией, которой он придерживался на протяжении своего более чем полувекового творческого пути. Репутация безнадежного маргинала, неутомимого графомана, непреодолимого экспериментатора, исступленного полемиста, который, казалось, не мыслил своего пребывания в искусстве вне состояния перманентного спора и ниспровержения авторитетов (что зачастую создавало впечатление абсолютной самодостаточности этого спора, так сказать, спора «как такового») все это делало позицию Крученых весьма уязвимой и как бы предназначенной для осуждения, осмеяния, неприятия. Без напряженного желания понять, вникнуть в суть, смысл, пафос творчества поэта, без «методологического доверия» (по выражению П. Флоренского) к деятельности автора, столь необходимого при обращении к литературному наследию Крученых (в силу исключительной специфики материала), без осознания того, что к его поэзии невозможно подходить как к «просто поэзии», так как при чтении необходимо учитывать множество дополнительных условий, вырабатывая тем самым особую методику чтения, - без всего этого действительно невозможно более или менее адекватное восприятие феномена Крученых. И в этом смысле реакция большинства критиков на творчество «дичайшего» (по самоопределению) из поэтов представляется в целом естественной и закономерной. Однако сейчас, при возможности более целостного рассмотрения пути русской литературы (или какой-то, весьма значительной, ее части) в XX веке, вплоть до наиновейших тенденции, становится очевидным не только самодостаточный характер поэтических экспериментов Крученых как историко-культурного явления определенного периода, периода классического русского авангарда, но и безусловно перспективный, а в чем-то и провидческий характер его деятельности. Это касается и влияния, прямого или опосредованного, на творчество поэтов последующих поколении, и того факта, что Крученых одним из первых поставил и по-своему пытался разрешить вопрос о совершенно новых принципах существования литературы как искусства слова в контексте реалий, возникших именно в XX веке, о взаимоотношениях литературы с другими видами искусства и иными областями человеческого бытия.
Крученых, Алексей Елисеевич родился в 1886 году в крестьянской семье в поселке Оливское Вавиловской волости Херсонской губернии. После окончания Одесского художественного училища он в 1906 году получает диплом учителя графического искусства. Художественное образование и профессиональное занятие живописью для будущей литературной практики Крученых будут иметь исключительно важное значение; для обозначившегося через несколько лет в виде сплоченной группы русского футуризма это вообще станет важнейшим явлением, поскольку одним из основных принципов литературной практики «будетлян» (предложенный В. Хлебниковым русский синоним слова «футуристы») будет ориентация литературы на методологические принципы новейшей живописи, выразившаяся в хлебниковском призыве: «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью». По-видимому, важным для творческой судьбы Крученых стало знакомство в Одессе (около 1904–1905 гг.) с Давидом Бурлюком (настолько, насколько судьбоносными стали и последующие знакомства с будущим «отцом русского футуризма» Владимира Маяковского, Бенедикта Лившица и некоторых других участников футуристического движения). Пока же, до фактического формирования шумной футуристической компании, произошедшего весной 1912 года, Крученых участвует в художественных выставках «Импрессионисты» (Санкт-Петербург) и «Венок» (Херсон), выступает как художник в печати, публикует ряд работ по вопросам живописи, а также художественную прозу. Первое поэтическое произведение Крученых появилось в газете «Херсонский вестник» в начале 1910 года. Стихотворение «Херсонская театральная энциклопедия» мало чем отличается от многих других поэтических фельетонов, типичных для периодической печати. Но зная дальнейшую творческую судьбу его автора, уже в нем можно рассмотреть некоторые контуры литературной позиции Крученых: осознание и утверждение себя в полемике, борьбу со стереотипами, взгляд на жизненные явления и явления искусства, направленный как бы со стороны, с краю, сбоку, в особом, неожиданном, непривычном ракурсе. Такой позиции он останется верен всегда (при этом постоянно меняя угол наблюдения). Через полтора десятка лет Б. Пастернак, характеризуя эту «крайность», «пограничность» эстетического кредо Крученых, напишет, обращаясь к нему: «Роль твоя в нем (в искусстве) любопытна и поучительна. Ты на его краю. Шаг в сторону, и ты вне его, т. е. в сырой обывательщине, у которой больше причуд, чем принято думать. Ты живой кусочек его мыслимой границы». Говорить о литературных «учителях» Крученых, об авторах, наиболее сильно повлиявших на его творчество, довольно сложно. Сам он о своих литературных пристрастиях открыто не высказывался ни в теоретических, ни в мемуарных работах, да и вряд ли этого можно было ожидать от одного из тех, кто бросал «с Парохода современности» практически всю предшествующую и современную литературу. Однако, как известно, развитие существующих тенденции и традиции может диалектически проявляться и в отрицании их, отталкивании от них, попытках их преодолеть. Да и одно дело - безапелляционные требования манифестов и деклараций, другое литературная практика (ведь признавался же в своих воспоминаниях Б. Лившиц, что и в то время он «спал с Пушкиным под подушкой»: «…да я ли один? Не продолжал ли он и во сне тревожить тех, кто объявлял его непонятнее гиероглифов?»). Крученых же, как никто из русских футуристов, отличался постоянным напряженным вниманием к русской литературе. Другое дело, что он опять-таки выбирает особый, специфический подход к ней (например, с точки зрения борьбы русских писателей с «чортом», в аспектах «сдвигологии» или анальной эротики): с одной стороны, это предполагало новый, свежий взгляд на, казалось бы, всем давно известное, а с другой, должно было способствовать дискредитации классиков или виднейших писателей-современников (прежде всего - символистов) и утверждению новейшего искусства, в том числе в лице самого себя («на смену русским литераторам пришли речетворцы - баячи будетляне»). В случае с Крученых о его литературных симпатиях, по-видимому, можно судить по тому, кто из писателей чаще становился объектом его нападок в поэтических и теоретических работах. Особый интерес, естественно, к «началу всех начал». И уже в первой стихотворной книге Крученых, созданной в соавторстве с В. Хлебниковым поэме «Игра в аду» (1912), которую сам автор охарактеризовал как «ироническую, сделанную под лубок, издевку над архаическим чертом», очевидна апелляция авторов к пушкинской традиции (об этом позже писал и Р. Якобсон). Позже, в «Заумной гниге», Крученых предложит свой вариант «Евгения Онегина», изложенного в две строчки; еще позже Пушкин окажется уже союзником Крученых при разработке им теории «сдвигологии». Известен интерес русских футуристов к иррациональному, алогичному, абсурдному миру произведений Гоголя. Неоднократно упоминается в работах Крученых Лермонтов. Из современников от Крученых больше всех достается Федору Сологубу (по Крученых - «Сологубешке»): «разбуженная саранча (нечистая сила) сонно схватила Салогуба и пожевав губами изблевала его и вышел он из ее рта сморщенным рыхлым и бритым»; «недаром в некоторых губерниях сологубить и значит заниматься онанизмом!» На «Первом в России вечере речетворцев», состоявшемся в Москве в октябре 1913 года, Крученых (можно допустить, что вполне искренне) назвал Ардальона Передонова из романа «Мелкий бес» единственным положительным типом в русской литературе, потому что тот «видел миры иные он сошел с ума». И пожалуй, воздействие именно Сологуба (интонации, мотивы, язык - столь характерное косноязычие) ощутимо в стихотворениях Крученых, вошедших в книги «Старинная любовь» (М., ) и «Бух лесиный» (СПб., ). Впрочем, он и сам позже признался, что в своих первых поэтических опытах занимался «нефтеванием болот сологубовщины». Для русского футуризма, особенно для наиболее радикальной и боевой из его групп - кубофутуристов вообще было характерно осознание и утверждение себя прежде всего через отрицание. Нигилистические, внешне деструктивные тенденции, особенно поначалу, доминировали в живописи, в литературе, в теоретических работах, в поведенческой практике «будетлян». Вот и основные символистские образы заменяются в поэзии футуристов «мертвым небом», звездами-«червями», луной-«вошью» Давида Бурлюка, побежденным солнцем и гибнущим миром Алексея Крученых, звездами-«плевочками» и «облаком в штанах» Владимира Маяковского. Вместо идеальной «вечной женственности» - «простая славная» инка или «маша с рожей красной» (или же вообще провозглашение «подлого презрения к женщине и детям»). А еще - апология «свинофильства», книги, изданные на обойной или оберточной бумаге, скандальные, провоцирующие выступления, нередко заканчивающиеся скандалами и вмешательством городового, вызывающий внешний вид (раскрашенные лица, морковь в петлице, «желтая кофта» Маяковского и т. д.). Искусство таким образом преодолевало черту, традиционно отделяющую его от жизни, оно самым решительным образом вторгалось в жизнь, воздействовало на жизнь, становилось частью жизни. Жизнетворчество, решительное, революционное преобразование действительности - такова была сверхзадача футуризма, - цель, безусловно, как считали сами «будетляне», оправдывающая средства. И неважно, какова была реакция презренного обывателя (смех, раздражение, возмущение, высокомерная брезгливость, желание с помощью закона приструнить «рыцарей зеленого осла») - главное, что эта реакция была. «Мне нравится ужас гг. Чуковских, Редько и Философовых перед „свинофилами“, - писал Крученых. - Да, Вашу и красоту и разум, женщину и жизнь мы вытолкали вон зовите нас разбойниками, скучными, хулиганами!..» И поэтому многое в футуристической практике делалось по принципам «Вам!» и «Нате!»; отсюда же - явно гипертрофированный у многих футуристов антропоцентризм (еще один принцип - «Я!»), и хотя этот «принцип» обычно справедливо связывается с личностью В. Маяковского, без сомнения, он был представлен и в творчестве его соратников, в том числе и у Крученых, хотя и в весьма своеобразной, определяемой личностными качествами и решаемыми задачами форме. Вообще, в совокупности группа «будетлян» представляла собой, по-видимому, весьма впечатляющий ансамбль, состоящий из колоритных фигур, каждой из которых - и в искусстве, и, так сказать, в жизни - была отведена индивидуальная, контрастная по отношению к другим роль. И сейчас трудно с уверенностью определить, что в позиции, в поведении того или иного футуриста было истинным, искренним проявлением личностных качеств, а что было результатом сознательной и целенаправленной работы по созданию имиджа, продуманной или стихийной игры на публику, бравады, гаерства - в принципе, это и не важно, да и эту самую публику меньше всего волновал вопрос об «искренности» футуристов. Во многочисленных репортерских отчетах, на запечатлевших их фотографиях, в мемуарной литературе - они так и остались навсегда: вальяжный, одноглазый, с лорнетом в руках, циничный и ничем не прошибаемый Давид Бурлюк; мощный, готовый, кажется, все сокрушить на своем пути, громогласный, «красивый двадцатидвухлетний» Владимир Маяковский; тихий гений, отрешенный, по видимости, от всего мирского, постоянно пребывающий в своем внутреннем мире и напряженно бьющийся над загадками вселенского масштаба Велимир Хлебников. А рядом (опять - рядом, сбоку, не в центре) - юркий, вертлявый, непоседливый, этакий хитрый «смеюнчик» из знаменитого хлебниковского стихотворения, да еще со столь выразительной фамилией - Крученых. Его именуют «свинофилом», - а он и соглашается. Его называют сумасшедшим, призывают отправить его в дом для умалишенных, - он сам с радостью отправляется «на Удельную» и возбраняет читать свои книжки «в здравом уме». Но если Крученых и вызывал смех, то это зачастую был смех напряженный, нервный, граничащий с ощущением опасности, даже страха. Кроме этого в нем видели одну из показательных персонификаций футуризма, один из ликов «Грядущего Хама» (по выражению Д. Мережковского). И воспринимали его тогда вполне всерьез.
![]()
В Москву привезли обширную коллекцию работ Натальи Гончаровой — знаменитой русской авангардистки, уехавшей в начале XX века в Париж. Это самая крупная выставка Гончаровой в России за последние 100 лет: до 16 февраля 2014 года в Третьяковской галерее будут представлены около 400 экспонатов, большинство из которых раньше в России не выставлялись.
Гончарова получила признание не только в России, но и в мире. Ее самая дорогая работа - «Цветы» - была продана более чем за $10 млн. И это рекорд для произведений искусства, созданных женщинами.
~~~~~~~~~~~
Наталья Гончарова «Цветы» (1912 год)
Цена: $10,9 / Аукцион: Christie’s / Год продажи: 2008
Эта картина считается знаковой для русского авангарда. В ней Гончарова смешала последние веяния европейского искусства (она изучала полотна Гогена, Матисса,Пикассо) и собственное новое направление - лучизм. Этот стиль - одну из ранних форм абстракционизма - Гончарова придумала вместе с мужем, футуристом Михаилом Ларионовым. Художники изображали лучи света цветными линиями, и таким образом передавали образ предметов. Они считали, что предметы в восприятии человека — это «сумма лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения» («Манифест лучизма»).
Луиза Буржуа «Паук»
Цена: $10,7 млн / Аукцион: Christie"s / Год: 2011
Американка французского происхождения Луиза Буржуа дожила почти до ста лет и попробовала себя практически во всех основных направлениях искусства ХХ века — кубизме, футуризме, сюрреализме, конструктивизме и абстракционизме. Но прославилась Буржуа, прежде всего, как скульптор. Все ее работы объединяет уникальная система символов. Ключевая тема ее творчества — детские воспоминания. Паук, а точнее паучиха, в знаковой системе Буржуа — это символ матери. «Она была такой же умной, терпеливой, чистой, рассудительной и обязательной, как паучиха. И она умела защитить себя», — говорила художница о своей матери.
Гигантские бронзовые скульптуры паучих Луизы Буржуа бьют рекорды на аукционных торгах. Последней рекорд принадлежит почти семиметровой «Паучихе» из частной коллекции в долине Напа неподалеку от Сан-Франциско: 8 ноября 2011года ее приобрели на Christie"s за $10,7 млн.
Наталья Гончарова «Испанка» (1916 год)
Цена: $10,7 млн / Аукцион: Christie’s / Год продажи: 2010
Это полотно было написано Гончаровой во время Первой мировой войны. Тогда в жизни художницы произошли серьезные перемены. Она переехала из России в Париж, где делала декорации для «Русских балетов» Дягилева. В «Испанке» проявилось мастерство Гончаровой как театрального художника: в композиции была передана мощная энергия испанского танца. При этом ей удалось сочетать детализацию театральных декораций и упрощение, присущее абстрактному искусству. В «Испанке» проявилась радикально новая техника, которую позже назвали театральным конструктивизмом.
Наталья Гончарова «Сбор яблок» (1909 год)
Цена: $9,8 млн / Аукцион: Christie’s / Год продажи: 2006
По итогам торгов «Импрессионисты и мастера XX века» в 2006 году «Сбор яблок» установил рекорд для русской живописи. Правда, кто купил картину, не известно: покупатель пожелал остаться неизвестным.
В тот момент, когда была написана эта работа, художница увлекалась импрессионизмом, постимпрессионизмом, кубизмом и футуризмом, но особенно ощутимо в ней влияние Гогена. Вдохновлялась Гончарова и русской иконописной и лубочной традицией. В результате возник целый цикл «Сбор плодов», выполненный в совершенно оригинальной манере.
Джоан Митчелл «Без названия» (1959 год)
Цена: $9,3 млн / Аукцион: Sotheby’s / Год продажи: 2011
«Без названия» - одна из первых работ Митчелл в новом для нее на тот момент стиле абстрактного экспрессионизма. Митчелл, по данным берлинской трейдинговой компании Artnet.com, является самой успешной художницей по аукционному обороту. За период с 1985 г. по 2013 г. было продано 646 ее работ, за них покупатели заплатили в общей сложности $239,8 млн. В отличие от других американских художников, работавших в стиле абстрактного экспрессионизма, Митчелл обращалась к европейской традиции.
Тамара де Лемпицка «Мечта» («Рафаэла на зеленом фоне») (1927 год)
Цена: $8,5 млн / Аукцион: Sotheby’s / Год продажи: 2011
Тамара де Лемпицка — американская художница с польскими корнями, которая некоторое время жила в Санкт-Петербурге. Она работала в стиле ар-деко, возникшем в 1920-30-х годах и впитавшем дух «века джаза». «Мечта» была написана Лемпицка в плодотворный парижский период и после торгов 2011 года оказалась самым дорогим из творений художницы. До этого самыми дорогими ее работами были проданные в 2009 г. «Портрет Марджори Ферри» ($4,9 млн) и «Портрет мадам М.» ($6,1 млн).
Джоан Митчелл «Салют, Салли!» (1970 год)
Цена: $7 млн / Аукцион: Chistie"s / Год: 2012
Эта картина посвящена старшей сестре Митчелл, Салли. Работа резко отличается от ее прежних полотен. В жизни художницы настали светлые времена, что отразилось на холсте. «Салют, Салли!» — яркая и солнечная картина. К 1970 г. Митчелл обрела постоянный дом, поселившись в небольшом городке Ветей в 55 км от Парижа. Там она наблюдала за природой и постоянно рисовала на своей террасе, в основном подсолнухи и прочие яркие цветы. Митчелл получила признание парижской публики — первая персональная выставка абстракционистки прошла в французской столице в том же 1970 г.
Картина написана маслом по холсту. До продажи полотно находилось в частной коллекции.
Кэди Ноланд «Озвальд» (1989 год)
Цена: $6,6 млн / Аукцион: Sotheby’s / Год: 2011
Американка Кэди Ноланд — скульптор и автор инсталляции, работающий в стиле постмодернизма. Пик ее творчества пришелся на 1980-1990 гг., а свою последнюю работу Ноланд создала 11 лет назад. Это, впрочем, не мешает ее картинам дорожать. По данным Bloomberg, Ноланд - один из трех художников, чьи работы сильней всего подорожали за последние 13 лет (+ 5,488 %). Столь впечатляющих цифр она добилась в том числе и благодаря проданному за $6,6 млн «Озвальду».
Скульптура изображает Ли Харви Освальда - единственного подозреваемого в убийстве американского президента Джона Кеннеди. Ноланд работала над этой инсталляцией в привычной для себя технике. Она использует образы из СМИ (вырезки из газет, кадры хроники), увеличивает их и с помощью шелкографии, наносит на листы алюминия, а потом вырезает. Чтобы придать фигурам выразительности, в некоторых случаях она делает отверстия — следы от пуль.
Произведения Ноланд находятся в ведущих галереях. Ее персональные выставки проходили в США, Японии, Европе, а работы продаются ведущими аукционными домами мира.
Тамара де Лемпицка «Спящая» (1930 год)
Цена: $6,6 млн / Аукцион: Sotheby"s / Год: 2011
Портреты, в том числе и в жанре «ню», занимают серьезное место в творческом наследии де Лемпицка. Она создавала образ сильной и сексуальной женщины (не удивительно, что одной из главных собирательниц работ Лемпицки стала Мадонна). Мир художницы наполнен роскошью, дорогими платьями, идеальными телами.
Наталья Гончарова «Цветущие деревья» («Яблоневый цвет») (1912 год)
Цена: $3,96 млн / Аукцион: Sotheby’s / Год: 2011
В этой работе Гончарова, как утверждают критики, куда ближе к живописной французской традиции XIX века, чем к произведениям Казимира Малевича и Василия Кандинского.
Анна Намит
Forbes
Наталья Гончарова — русская художница, живописец, график, театральный художник, книжный иллюстратор. Представительница русского авангарда начала 1910-х годов, один из самых ярких сценографов XX века.
Наталья Сергеевна Гончарова родилась 3 июля 1881 года в деревне Ладыжино Тульской области. Принадлежала к старинному дворянскому роду Гончаровых, приходилась двоюродной правнучкой жене Александра Сергеевича Пушкина .
Сергей Михайлович, отец Натальи, был архитектором, представителем московского модерна. Мама Екатерина Ильинична — дочь московского профессора духовной академии. Детство художницы прошло в Тульской губернии, где её отцу принадлежали несколько сёл и усадеб, что привило ей любовь к сельской жизни. Именно с этим искусствоведы связывают декоративность её зрелого творчества.
В 1891 году, когда девочке исполнилось 10 лет, семья переехала в Москву.
Образование
В Москве Наталья Гончарова поступила в женскую гимназию, которую окончила в 1898 году с серебряной медалью.
Несмотря на склонности к рисованию, в юности Гончарова не рассматривала серьёзно возможность стать художником.
В 1900 году поступила на медицинские курсы, но бросила их через три дня. В том же году в течение полугода училась на историческом факультете Высших женских курсов.
Тогда же стала сильно интересоваться искусством и через год поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в класс скульптуры С. Волнухина и П. Трубецкого.
В 1904 году она получила малую серебряную медаль за свои работы, но вскоре оставила учёбу.
Наталья Сергеевна Гончарова Фото: Commons.wikimedia.org
Встреча с мужем
Во время обучения в Московском училище живописи, ваяния и зодчества Гончарова познакомилась со своим будущим мужем: живописцем Михаилом Ларионовым . Встреча с ним изменила жизнь и намерения девушки: она начинает много писать и искать свой стиль. Именно Ларионов посоветовал ей не тратить время на скульптуру и заняться живописью. «Откройте глаза на свои глаза. У вас талант к цвету, а вы занимаетесь формой», — сказал он.
В 1904 году Гончарова возвращается к учёбе, но переходит в студию живописи к Константину Коровину . Ранними работами Гончаровой стали картины в духе импрессионизма. Скульптуру девушка не забросила и в 1907 году получила ещё одну медаль.
В 1909 году Наталья окончательно решает оставить учёбу. Она прекращает вносить оплату за обучение, и её отчисляют из училища.
Связав свою жизнь с Михаилом Ларионовым, она разделила его устремления и художественные взгляды. Гончарова пробует себя во многих направлениях живописи: кубизме («Портрет М. Ларионова», 1913) и примитивизме («Мытьё холста», 1910).
В это время художницу привлекает тематика крестьянского искусства. Она стремится познать сущность творчества народа. Гончарова возвращается к декоративно-прикладному искусству: пишет рисунки для обоев, оформляет фризы домов.

Репродукция картины Натальи Гончаровой «Мытьё холста». 1910 год. Фото: « РИА Новости »
С 1908 по 1911 годы она даёт частные уроки в художественной студии живописца Ильи Машкова .
Иллюстрирование
Художница участвовала в деятельности общества футуристов, сотрудничая с Велимиром Хлебниковым и Алексеем Кручёных . Дружба с футуристами привела её к книжной графике. В 1912 году Гончарова оформила книги Кручёных и Хлебникова «Мирсконца», «Игра в аду». Она одной из первых книжных графиков в Европе использовала технику коллажа.
Выставки
24 марта 1910 года в помещении литературно-художественного кружка Общества свободной эстетики Гончарова организует свою первую персональную выставку, на которой было представлено 22 картины. Выставка продолжалась лишь один день: из-за представленной картины «Натурщица (на синем фоне)» Гончарова обвинялась в порнографии, несколько работ были конфискованы. Вскоре суд оправдал её.
В 1911 году она вместе с Ларионовым организует выставку «Бубновый валет», в 1912 — «Ослиный хвост». Далее — «Мишени», «№ 4». Художница входила в мюнхенское общество «Синий всадник». Гончарова активно поддерживала многочисленные акции и начинания того времени.
В 1912 году на знаменитой выставке «Ослиный хвост» Наталья Гончарова выставляла цикл из 4 картин «Евангелисты». Эта работа вызвала ярость у цензоров своим нетривиальным изображением святых.
В 1914 году состоялась большая персональная выставка работ Гончаровой, было выставлено 762 полотна. Но также не обошлось без скандала: были сняты 22 работы, после этого цензоры обратились в суд, обвинив Гончарову в кощунстве.
В 1915 году состоялась последняя выставка работ Гончаровой в России. В июне Дягилев приглашает Гончарову и Ларионова для постоянной работы в его «Русских сезонах», они покидают Россию.
Эмиграция
Гончарова и Ларионов приехали во Францию, где супруги остались до конца жизни. Вернуться в Россию им помешала революция.
Они поселились в Латинском квартале Парижа, где любил бывать весь цвет русской эмиграции. Гончарова и Ларионов устраивали благотворительные балы для начинающих живописцев. В их доме часто бывали Николай Гумилёв и Марина Цветаева .
Гончарова очень много работала в Париже, её циклы «Павлины», «Магнолии», «Колючие цветы» говорят о ней как о зрелом живописце. Марина Цветаева писала: «Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, во-вторых, везде, в-третьих, всё. Все темы, все размеры, все способы осуществления (масло, акварель, темпера, пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь — что ещё?), все области живописи, за всё берётся и каждый раз даёт. Такое же явление живописи, как явление природы».

Наталья Гончарова. Павлин под ярким солнцем, 1911 Фото: Commons.wikimedia.org
Однако больше всего сил Гончарова отдавала работе в театре. Вплоть до смерти Дягилева в 1929 году она была одним из ведущих художников его антрепризы. Она оформила балеты «Испанская рапсодия» (на музыку М. Равеля ), «Жар-птица» (на музыку И. Стравинского ), «Богатыри» (на музыку А. Бородина ), оперу «Кощей Бессмертный» (на музыку Н. Римского-Корсакова ).
В пятидесятые годы Наталья Сергеевна писала многочисленные натюрморты и полотна «космического цикла».
В шестидесятые годы произошло возрождение широкого интереса к искусству Ларионова и Гончаровой, их выставки прошли во многих странах и городах Европы и Америки. В 1961 году в Лондоне Советом искусств Великобритании была организована крупная ретроспектива работ Ларионова и Гончаровой.
Наталья Гончарова скончалась в Париже 17 октября 1962 года. Похоронена на кладбище в Иври-сюр-Сен.
После её смерти Музей современного искусства в Париже посвятил ей и Ларионову крупную ретроспективу.