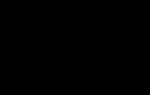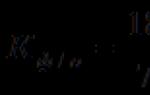Отец в современной русской литературе. Проблема «отцов и детей» в русской литературе XIX века
Роман И.С. Тургенева дал имя нашей теме, которая, однако, поставлена в русской литературе столь широко и значительно, что можно всех ведущих героев представить в двух ракурсах: как отцов, детей или же героев-одиночек, вне рода-племени. Кажется даже, что количественно вторая позиция преобладает: герои бездетные и бессемейные – первые герои русской классики. Чацкий, Онегин, Печорин воспринимаются как сироты и в житейском, и в метафорическом смысле слова, но ведь и это – обратная сторона нашей темы. Личностное, индивидуальное начало настолько преобладает в их облике, что "мысль семейная" внешне не связана с ними. Заметим – только на первый взгляд. Ведь и отрицательное развитие темы тоже надо учитывать. Так, можно построить наблюдения и иначе: только сиротами и могут быть названные герои – в силу их характеров.
Общеизвестное начало "Анны Карениной": "Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастливая несчастлива по-своему", несмотря на полемическое его опровержение самим же романом, вообще можно считать девизом темы, вектором ее интересов. Вся напряженность темы вытекает из внутреннего конфликта: "отцы и дети" прочитываются как "дети против отцов" или "отцы против детей". Не так ли строятся судьбы Раскольниковых, Базаровых, Кабановых, Болконских?.. Тоска Чичикова по потомству кажется чисто комедийной чертой. А внутренняя опустошенность героев "Вишневого сада" покажет, что героям вообще не до отцовства. Этот фон заслоняет не обязательно счастливые, но – позитивные, содержательные связи. Но это обманчивое впечатление, и в глубине содержания тургеневского романа "Отцы и дети" внешний конфликт детей и отцов сменяется единством, доступным лишь избранным героям и выраженным в заглавии всего лишь соединительным союзом. Таков предварительный эскиз темы.
Тем не менее негативные решения преобладают в нашей теме, более ярки и привлекательны для писателя, хотя и заведомо обречены на несогласие проницательных читателей. Приведем несправедливую, но и не случайную реплику В.В.Розанова: "Отцы и дети" Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси. После того, как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова, администрация у Щедрина, купцы у Островского, духовенство у Лескова и, наконец, вот сама семья у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего любить" (10, 792). Но конфликтные состояния в отцах и детях - отнюдь не новость в литературе 19-го века: еще фонвизинский Митрофанушка жалел матушку из-за того, что "так устала, колотя батюшку" (14, 89). Родословную конфликта можно довести до одного из древнейших мифов, и едва ли возможно установить, что первично – вражда или дружба отцов и детей. В античной мифологии само сотворение мира происходит в смертельной схватке отца и сына, по сравнению с чем мельчают все сюжеты 19-го века. Так что существо конфликта безусловно уходит к корням мировой культуры: первый мужчина Уран ненавидит своих детей, хотя и не может избежать лавиноподобного детородства, и будет оскоплен (символически убит) своим сыном Кроносом, который в свою очередь низвергнут Зевсом, - всех прочих своих детей Кронос пожирает, чтобы избежать поражения от своего потомка. Отпечаток этой вражды можно найти и в последующей мифологической истории, а также в мифах разных народов. Каков первоисточник нашей темы?!.
Противоположную картину дает христианская религия. Ветхозаветный закон Моисея "почитай отца твоего и мать твою" (Ис., 20, 12) в высшей степени воплощен Христом: это образец отношений отцов и детей: "Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына" (Мф., 11, 27). И именно через Христа сам Бог воспринимается как Отец всеобщий: "Да будете сынами Отца вашего небесного" (Мф., 5, 45); точнее – исполняя заповеди, человек обретает Отца в Боге: "И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего" (Лк., 6, 35). Заповедь почитания родителей остается одной из главнейших. Это благо жизни; наоборот, катастрофа жизни рисуется словами: "Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их" (Мф., 10, 21).
Условно говоря, между образом Урана и образом Христа и располагаются вариации нашей темы, приближаясь то к одной, то к другой линии. Склонности писателей и мыслителей будут здесь вполне очевидны. В целом всякое сомнение в единстве отца и сына будет самым прямым путем к сомнению в Христе. Вот и обратим пафос В.В.Розанова на его собственную мысль и увидим антихристианскую позицию: "Сын, дети всегда не походят на отца и скорее противолежат ему, нежели его повторяют собою… Сын рождается, если отец был не полон… Посему кто сказал бы: "Я и отец – одно" (слова Христа.- А.А.), вызвал бы ответное недоумение: "К чему? Зачем повторения?". Нет, явно сын мог бы "придти", только чтобы восполнить отца, как несовершенного, лишенного полноты и вообще недостаточного… Без противоречия отцу не может быть сына" (10, 623). Не это ли урановый источник начала 20-века?
Л.Н.Толстой в своем знаменитом изложении Евангелия, наоборот, предельно заострит мотив единства отца и сына, но – видя подлинным отцом только Бога, словно в ущерб земному отцовству. Поэтому, по Толстому, "Иисус был сын неизвестного отца. Не зная отца своего, он в детстве своем называл отцом своим Бога" (12, 39): "Человек – сын бесконечного начала, сын этого Отца не плотью, но духом" (12, 33). И сам завет чтить отца и мать поздний Толстой воспринимает только как почитание этого отца – Бога: "Чти Отца твоего (с заглавной буквы в отличие от соответствующего места в каноническом Евангелии.- А.А.), исполняй его волю", - напишет Толстой (12, 59).
Приведенные примеры должны показать ресурсы темы, которая даже в обращении к Евангелию не воспринимается как нечто навеки решенное, устойчивое. Литература сполна отразит всю динамичность отношений отцов и детей. Добавим наряду с мифом об Уране и христианской заповедью еще один важный первоисточник нашей темы, который служит ориентиром в русской культуре. Это знаменитый "Домострой" , памятник литературы 16 века (возьмем наиболее известную и полную редакцию в авторстве священника о. Сильвестра, духовника Ивана Грозного). "Домострой" является житейским воплощением христианской морали, а написан в форме "назидания от отца к сыну": это завет обустройства жизни по слову Божию. Здесь отец и сын едины именно перед лицом Бога, что нисколько не умаляет земную, родительскую связь. Отец прежде всего ответственен за семью перед Богом, это вовсе не тиран семьи, как по незнанию часто говорят о "Домострое". Более того, с совершеннолетием, с обретением своей собственной семьи, сын выходит из-под родительской опеки, сам отвечает перед Богом: "Аще сего моего писания не внемлите и наказания не послушаете и по тому не учнете жить и не тако творити, яко же есть писано, сами себе ответ дадите в день Страшного суда, и аз вашим винам и греху не причастен" (5, 23). Это почти идеальное решение темы отцов и детей никогда более не будет воплощено в нашей литературе - и потому, что всякая заповедь не многими воспринята и воплощена ("Много званых, а мало избранных", Мф., 22, 14), и потому, что жизнь конфликтна по своей сути и неповторимые несчастливые семьи интереснее писателю. Как и открыто в Новом Завете, христианский идеал утверждается крайне напряженно и даже не воплотим до самого Апокалипсиса. Так что и в литературе, ориентированной на православие, чаще отражено урановское решение нашей темы, хотя и с осуждающей авторской оценкой. Это будет линия Чацкого и Онегина, Печорина и Базарова, героев Островского. Достоевский даст картину карамазовщины, но и покажет преданность детей даже такому отцу, как Мармеладов. Гоголь особенно остро чувствует идеальную сторону в единстве отцов и детей. Толстой ведет к домостроительному решению героев "Войны и мира". И так постепенно мы подойдем к Чехову, у которого появится новое решение: не любовь и не вражда, а либо бессемейность и безотцовщина, либо внутреннее отчуждение и безразличие отцов и детей, т.е. тема по сути перестает существовать.
В русскую классику тема отцов и детей входит с Чацким – и со всеми присущими этому герою чертами. Герой врывается в дом Фамусова, словно в свой родной дом, и эта деталь прежде всего задает особую обрисовку Чацкого: он сирота, Фамусов для него с детства – подмена отца, со скрытой, как и во всякой подмене, конфликтностью, что придает и особую интонацию реплике "Спросили бы, как делали отцы? Учились бы, на старших глядя". Не знавший отца Чацкий поэтому вдвойне желчно относится к Фамусову, а его ответная реплика "А судьи кто?" прикрывает другой ответ: "Вы нам никто". И далее: "Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны признать за образцы?". Есть даже и оттенок личной ущербности, когда Чацкий ополчается на век отцов – великий 18-й век, видя в нем лишь ничтожность. Не менее нигилистически Чацкий толкует и о детях – уже в самом прямом значении: "Чтоб иметь детей, кому ума недоставало?" (4, 78). Чацкий весь сосредоточился на своем Я и в простоватой злобе отвергает все, что было до и будет после него. Между тем в самом Чацком много родовых черт отцов-фамусовых (см. об этом в главе "Лишний человек"), а его характер словно в пику претензиям на новаторство воспринимают именно в отражении предков: "По матери пошел, по Анне Алексевне, покойница с ума сходила восемь раз" (4, 101). Для самого Чацкого не то что нет стремления к отцовству, к браку, а скорее это для него помеха в жизни. Такова его оскорбительная поза перед отцом Софьи. Фамусов имел все основания просто и прямо спросить у нашего героя: "Обрыскал свет: не хочешь ли жениться?" и затем остроумно парирует реплику Чацкого "А вам на что?": "Меня не худо бы спроситься, ведь я ей несколько сродни,/ По крайней мере искони/ Отцом недаром называли". Для Чацкого это – разумеется, даром, да и он сам внутренне боится брака, уклоняется от ответа Фамусову, везде толкует о любви, но нигде – о браке. Не это ли главное препятствие в его отношениях с Софьей? Или Чацкий в духе Молчалина собирается "без свадьбы время проволочить"? Явиться чуть свет к Фамусовым можно на правах сына или жениха Софьи, Чацкий же, отвергая и то, и другое, заведомо попадает в двойственное положение, сам себе создает "миллион терзаний" и одновременно делается героем комедии.
Фамусов в "Горе…" - прежде всего отец, и нет ничего смешного в его реплике "Что за комиссия, Создатель,/ Быть взрослой дочери отцом!": всякий отец должен понять Фамусова. Чуть позже – о том, каким отцом будет он, тоже герой комедии… Напряженность в фамусовском положении усугубляется значительной деталью: Софья недавно потеряла мать, и реплика "Мы в трауре, так бала дать нельзя", очевидно, относится к трауру по жене Фамусова.
В чем значение этой подробности, которая заставляет по-особому воспринимать все, происходящее в доме Фамусовых? В комедии Грибоедова очень важно увидеть конкретную картину жизни, а не только резкую сатиру. Определение И.А.Гончарова – "комедия жизни" - в высшей степени соответствует "Горю от ума". Потеря матери словно делает Софью старше: вся ее роль до самого финала несет ореол уважения и даже покорности перед нею. Фамусов боится ее присутствия при легкомысленной сценке с Лизой, скрывается, как только слышит голос Софьи: ремарка "Крадется вон из комнаты на цыпочках". По сравнению с Фамусовым Софья гораздо увереннее, не выражает показного страха за свою судьбу (ср. интонацию ее отца: "Ах! матушка, не довершай удара!"). Дело тут далеко не только в силе характера Софьи, но и в ее более сильном, чем следует, положении в доме: обращение матушка весьма многозначно. Она словно стала играть роль, более свойственную старшим в доме, что отражается и на положении Фамусова и дает неожиданную интригу комедии.
Не потому ли Фамусов в конце пьесы со всей силой обрушивается на Софью: новое и весьма унизительное положение дочери словно освободило его от давящего и сковывающего авторитета Софьи: "Дочь, Софья Павловна! страмница! Бесстыдница … как мать ее, покойница жена". Словно выходит наружу скрытое раздражение покойной женой: "Чуть врозь – уж где-нибудь с мужчиной". Сравним: Фамусов в духе отцовского могущества может "принанять … вторую мать", которая, конечно, окажется "золотцем" - не в укор ли первой? Публичность сцене в сенях придает Фамусов, а без этого нет серьезного повода обрушиваться на дочь. Отец всячески грозит дочери, но тут есть и своя доля злорадства: он мнимо неслыханным поступком дочери хоть на время освобождается от родительского долга: "Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми!" Это своего рода месть за родительские тяготы, ведь внутренне Фамусов готов сбросить "с плеч долой" любое бремя: Софья в конце концов мешает повесничать ему с Лизой, да и не только с нею, с этой стороны многие реплики Фамусова двусмысленны. "Монашеским известен поведеньем," - скажет он и яростно заткнет рот Лизе, желавшей что-то возразить на эту реплику и, видимо, имевшей для этого основания: "Осмелюсь я, сударь… - Молчать! Ужасный век! Не знаешь, что начать". Собственно, если бы Фамусов был именно преданным и добросовестным отцом, он не был бы героем комедии.
В Софье больше трагического начала. Она предельно серьезна в любви. С одной стороны, любовь к Молчалину насыщена стремлением покровительствовать (вот – позиция матери); она доминирует в отношении Молчалина, и это вполне убедительное представление любовного чувства, здесь есть почва для психоаналитика. Софья вообще вплоть до последней сцены первенствует в отношении любого героя, и источник этой черты определенно в замещении старших. Она не может любить Чацкого, который сам стремится быть лидером и покровителем, не всегда имея на это право, именно не может, а не ошибается или не хочет. Желанную роль в отношении Софьи Чацкий исполнит только когда та без чувств, в обмороке: "Но вас я воскресил" - эта метафора не случайна. Стать в позу воскрешающего Бога-Отца – завершение характера Чацкого, опять же, видимо, следствие сиротства: он не привык видеть рядом с собой заведомо авторитетного отца.
Но метафорически воскресить Молчалина стремится и Софья. Поэтому другая сторона в ее отношении к Молчалину – это желание увидеть в нем смиренную жертву и, если не подобие Христа, то уж точно христианского праведника. Софья о Молчалине: "За других себя забыть готов,/ Враг дерзости", "уступчив, скромен, тих, в лице ни тени беспокойства и на душе проступков никаких", в противоположность ему "батюшка часто без толку сердит, а он безмолвием его обезоружит, от доброты души простит", "смирнейшему пощады нет" и др. – поистине свод христианских добродетелей, обнаруженных Софьей в беззащитном, как ребенок, герое, которого "смело берет она под защиту". Поэтому мотив "я живо в нем участье приняла" надо принять в Софье всерьез, более значимо, чем выглядит сам эпизод с падением Молчалина. И здесь, как и положено в комедии, смех рождается на контрасте пустякового полета с лошади (ср. реплики Лизы и Скалозуба) и чрезмерно глубокого переживания.
Заметим и постоянное противопоставление Фамусова Молчалину в сознании Софьи – противопоставление зла и добра. Сон же ее прямо выдает восприятие отца как помехи ее счастью, помехи добру. Появление отца откуда-то из-под земли ("Раскрылся пол – и вы оттуда. Бледны, как смерть, и дыбом волоса!") выдает смутное желание смерти отцу. Словом, сюжет, достойный античной трагедии. Но комедия – всегда комедия ошибок. Софья ошибается и в понимании Молчалина, и в понимании самой себя. Собственно горе в этой комедии – от ошибок ума. Добавим - и от ошибок чувства. Поэтому одним из аналогов названия комедии в Евангелии будет стих от Матфея: "Горе миру от соблазнов… горе тому человеку, через которого соблазн приходит"(Мф., 18, 7). В комедии соблазн приходит через каждого героя, и у каждого – свое горе, свой миллион терзаний, ни один герой не блаженствует на свете – вопреки словам Чацкого, который видит только свои несчастья.
Ошибки сродни лжи, поэтому Софья, с ее "лицом святейшей богомолки" и торжественно звучащим именем (София – мудрость, или Премудрость Божия – в православном мире), окажется одновременно лгуньей и клеветницей. Она собственно входит в пьесу с ложью отцу о встрече с Молчалиным и о пророческом сне, ложью развернутой и, наверное, привычной ("бывает хуже – с рук сойдет"). Не это ли дало повод Пушкину бросить знаменитую и загадочную реплику о Софье: "не то б…, не то московская кузина" (9, 8, 74), а ‘гениальному’ Всеволоду Мейерхольду с безудержным восторгом сделать ее в своей постановке "именно "б" и четыре точки!", по его словам (8, 326). Оценка несправедливая: в Софье автор показывает, как нелегко принять христианский идеал и в поисках праведности впасть в глубокое заблуждение. Забота же Фамусова о дочери будет отдавать стремлением освободиться от бремени и перепоручить его самому подходящему и более сильному – разумеется, полковнику Скалозубу, уж полковник-то знает, как смирять нравы ("а пикнете, так мигом успокоит").
Итак, в "Горе от ума" наша тема представлена по Урану: дети мешают отцам, отцы становятся врагами детям, дети отвечают тем же, объединяет их разве что взаимная мстительность и – "общественное мнение". Но авторский замысел, или идеал, конечно, не в этом. Потому это и комедия, что автор, глубоко верующий, знаток Библии, перелагающий Псалтырь, знает Христову заповедь для отцов и детей. В комедии же почитает отца разве что Молчалин: "Мне завещал отец…", и завет этот окажется совершенно комичен.
Средоточие вариаций в теме "отцов и детей" у Пушкина
– в произведениях разных жанров. Общее позитивное ее решение – благостное, но и с оттенком горечи – может быть выражено стихотворным девизом:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Однако "верный оценщик жизни", по определению Гоголя (2, 227), не мог не отразить оба полюса в нашей теме. Оттого и скорбный налет пепелища. Другое дело, что если у Грибоедова напряженное противостояние остается неразрешимым в сюжете пьесы, то Пушкин всегда приводит своих героев к ощущению – но, вероятно, не к достижению – христианского идеала, конечно, - в пушкинской стилистике.
Пример Онегина в этом смысле – "другим наука" (начнем с этого ведущего пушкинского героя, пусть и не самого очевидного представителя нашей темы). Легко запоминается реплика "отец понять его не мог и земли отдавал в залог", и это непременная черта Онегина: отчуждение от жизни начинается с отчужденности к отцу. Смерть отца словно проходит мимо сознания героя (так же, как и пресловутого дяди, но – никак не смерть Ленского). Интересно сравнить, как по-разному поступают литературные герои-современники: Онегин и Николай Ростов из "Войны и мира". Пушкинский герой легко отказывается от наследства отца, "довольный жребием своим", и это вполне символичный жест: он не чувствует ответственности за отца, он – не наследник. Здесь нет никакой духовной составляющей, только арифметика: долги отца обременяют Онегина, превосходят стоимость наследства, и это – не долги сына. Николай Ростов так поступить не может: не принять наследство и долги значит для него отказаться от отца, и Николай буквально жертвует собой ради своего духовного долга перед отцом, но, заметим, поступает здесь исключительно свободно, т.е. так, как велит совесть, а не житейский расчет.
Общеизвестно: "верный идеал" Пушкина сосредоточен в образе Татьяны Лариной, Онегин лишь устремлен к этому идеалу, который в смысловом отношении надо принять полно: в отношении к миру, к Богу, к людям, в том числе и к родителям. "Смиренный грешник" Дмитрий Ларин обрисован просто и с добродушным сочувствием. Некоторая беззаботность видна в нем и в отношении к дочерям: "Отец ее был добрый малый,/ В прошедшем веке запоздалый /… И не заботился о том,/ Какой у дочки тайный том /Дремал до утра под подушкой". В этих легких стихах – типично пушкинское представление об отце: отец отнюдь не посвящает себя детям, может быть и не многое в состоянии сделать для детей, но образ его – при всем простодушии, а иногда и при всей нелепости – священен. Это, скажем так, рядовой, не трагический вариант.
Татьяна, как и Онегин, теряет отца, но переживает это совсем иначе: "Он умер … оплаканный/ … Детьми и верною женой/ Чистосердечней, чем иной". Заметим, что в этих строках мы опустили слова, передающие оттенок авторской иронии, - иронии к человеку как таковому, к "простому и доброму барину" (ср.: "Он умер в час перед обедом…"). Это ирония над "господним рабом и бригадиром", а никак не над отношением Татьяны к отцу. Нельзя не заметить, что лучшие строки о Ленском связаны с его отношением к отцам, в том числе – отношением к отцу Ольги и Татьяны: "Он на руках меня держал, /Как часто в детстве я играл /Его очаковской медалью!/ Он Ольгу прочил за меня…" (последняя строка, правда, может не внушать доверия, не есть ли это поэтический вымысел и – все та же авторская ирония?). Итак, дети не отказываются от отцов, чистосердечно преданны и даже покорны им (то же видно и в отношении к матери), несмотря на внутреннее несходство, к чему был так чувствителен и остер грибоедовский герой: связь "отцов и детей" сильнее возможных конфликтов, сильнее онегинского непонимания. Возвращение Онегина к Татьяне в конце романа означает и принятие в Татьяне всей ее личности, ее верности.
Пушкинское решение темы всегда динамично: если реальность может отражать скорее линию Урана, то это еще не есть идеал или истина жизни; идеал же – в приближении к Христу, пусть и не всегда названному у Пушкина.
Самая ожесточенная картина в отношениях отцов и детей, разумеется, в "Скупом рыцаре". Не будем вдаваться в аналогии с биографией самого поэта: общеизвестны конфликты Пушкина с отцом, но есть что-то неприемлемое в интимных раскопках чужих судеб. Будем судить о поэте по его творчеству. Кстати, из-за очевидного желания проницательных читателей сблизить ситуацию "Скупого рыцаря" с домом Пушкиных автор долгое время вообще не печатал пьесу (до 1836 года), опубликовал ее под псевдонимом "Р", выдал ее за некий перевод из Ченстока, и надо уважать право и волю автора. Конфликт старика-барона и его сына Альбера раскрывает общую неправоту обеих сторон: оба воспринимают друг друга как противников и, каждый по своим основаниям, презирают друг друга. Альбер со злорадством ждет наследства – словно только смерть отца докажет его сыновние права ("Ужель отец меня переживет?"). Нет никакого сыновьего послушания, этого залога ответственности отца перед сыном, но нет и возможности показать свою независимость. Обвинения ближних из-за своих страданий вообще никогда не могут восприниматься убедительно, так что здесь это и заведомо негативная реакция автора на своего героя. Предание публичности конфликту отца и сына – шаг, по Пушкину, недостойный и едва ли оправдан: образ Альбера гораздо сильнее в его внутреннем страдании, в гневе на Жида, подсказывающего, как отравить отца, чем в сцене жалобы Герцогу на Барона. Хотя не следует и преувеличивать чистоту гнева Альбера на Жида: это может быть и сильный способ добиться денег, напугав простодушного советчика. Тогда вина здесь вновь перенесена на другого: "Вот до чего меня доводит/ Отца родного скупость! Жид мне смел что предложить! … Однако ж деньги мне нужны. Сбегай за жидом проклятым. Возьми его червонцы… Иль нет, его червонцы будут пахнуть ядом, как сребренники пращура его…" . Это обращение к образу Христа, возможно, и остановило Альбера, не позволило взять деньги, ведь имя Спасителя воскрешает, как символ, всю христианскую мораль, в том числе и образец отношений отца и сына. Христос готов пить чашу страдания, как определено Отцом, - Альбер не способен на подвиг христианского смирения и – всего лишь идет к Герцогу с жалобой. Отец Альбера – не благостен, страдания, принесенные сыну, - однозначное зло, Барон вообще явно полоумен, но жалоба Герцогу на отца выглядит унизительно.
Пушкин показывает, что отношения отца и сына – особые отношения, здесь не оправданы любые поступки, нарушающие суверенность этих отношений, как бы оправдательно это ни выглядело, более того – эти отношения не подсудны любым внешним требованиям справедливости или просто логики. Поэтому вмешательство Герцога не приносит добра, наоборот, на его глазах завязывается поединок отца и сына, хотя поначалу казалось, что исправить заблуждения в семье Барона будет так легко и даже величественно: "Вашего отца усовещу наедине, без шуму". Рыцарская воинственность в подобном поединке – не доблесть, а позор, Герцогу же остается вместо примирения лишь произнести мораль: "Ужасный век, ужасные сердца". Во вражде отца и сына нет ни правого и виноватого, ни победителя и побежденного. Так у Пушкина картина ожесточенности тем не менее утверждает идеал единства отца и сына – доступный лишь подлинно величественному характеру. Таким в сцене выступает Герцог, с подчеркнутой преданностью говорящий о своих предках: "Вы деду были другом;/ Мой отец вас уважал /И я всегда считал вас верным…", "В какие дни надел я на себя цепь герцогов". Конфликт отца и сына, таким образом, конфликт низкий, недостойный. Но еще раз подчеркнем: вмешательство Герцога в отношения между отцом и сыном окажется бесполезным и самонадеянным поступком, приводящим лишь к предельному ожесточению, а в конце концов и к смерти Барона. Любая внешняя власть здесь бессильна, как бессилен и общеизвестный идеал: то, что так легко осуждается извне, изменить невозможно.
Суверенность любых родовых интересов вообще утверждается Пушкиным (ср.: "Оставьте, это спор славян между собою"), обоюдная же неправота героев "Скупого рыцаря" может быть понята именно с христианских позиций: в Ветхом завете Хам наказан за то, что "открыл наготу" своего отца, когда тот был в самом презренном состоянии – пьян беспробудно (Быт., 9, 22). И очень часто сын, идущий против отца, уподоблен Хаму, независимо от мотивов поступка. Далее. Альбер мыслит о смерти отца и овладении его наследством. Но в христианстве мысль приравнена к совершенному поступку, и Альбер в душе своей совершает убийство и грабеж: "Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, " - сказано апостолом Иоанном (1 Ио., 3, 15). Так порочность Альбера окажется не меньшей, чем порочность Барона. Главная же оценка – в невозможности оправдать конфликт отца и сына, каковы бы ни были его истоки.
Мотив вины в образе отца наиболее полно и глубоко показан в "Станционном смотрителе". Напомним само решение темы. Самсон Вырин не наделен какими-то вопиющими пороками, как Барон в "Скупом рыцаре". Однако этот услужливый отец приносит в семью горе, не меньшее, чем отец Альбера. Простодушие Самсона лишь подчеркивает его сосредоточенность на своем малом счастье: избегать конфликтов с проезжими, наслаждаться домашним уютом, горячим пуншем, любоваться заботливой дочкой, не допуская мысли о внутреннем конфликте с нею и о своей ответственности перед нею, не замечая, что весь уклад в его доме насыщен фальшивой сладостью и развратом. Его готовность всегда смягчить гнев проезжающих за счет обаяния дочери приучает Дуню к лживости, готовности ублажать сильных мира сего ради получения малых, сиюминутных благ. Это обернется против отца, но финал повести говорит именно о взаимной ответственности отцов и детей.
Большое мастерство требовалось от поэта, а также и зрелость мироощущения, чтобы изобразить порок не в вопиющем облике, а в виде повседневного, скрытого эгоизма, под маской взаимной заботы, услужливости и обаяния. Едва ли можно усомниться в том, что решение темы в "Станционном смотрителе" не представляет авторского идеала отношений отцов и детей: образ дома Выриных раскрывает злобу дня, а не истину.
Типичное решение темы у Пушкина – "Отец им не занимается, но любит" (из "Русского Пелама") – представлено в "Барышне-крестьянке", "Дубровском", "Капитанской дочке". Видимо, это, как наиболее реальное, положение и окажется ближе всего к истине.
Повесть из цикла Белкина словно искупает тягостность "Станционного смотрителя": там скрытое противостояние приводит к трагедии, здесь же открытое непокорство отцам разрешается со всей веселостью. Отец: "Ты женишься, или я тебя прокляну", но счастливое разрешение конфликта полностью совпадает с волей отца, словно сама жизнь благословила послушание детей отцам, даже таким своеобразным, как Муромский и Берестов. Пить чашу судьбы, приготовленную отцом, окажется легко и приятно. Самое сокровенное желание сына удивительным образом совпадет с суровой волей отца. Пушкин явно мечтал о таком повороте судьбы, но комическое начало повести, ее веселость подчеркивают наивность такого ожидания.
Страница 1 - 1 из 5
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | Все
© Все права защищены
Проблема «отцов и детей» в творчестве современных писателей
Панкова Е.С., учитель ГБОУ СОШ №941
Девятнадцатый, а потом и двадцатый век многих приучили к мысли о неизбежности возникновения проблемы «отцов и детей». Трагическое непонимание друг друга представителями двух поколений, неспособность и невозможность хранить единомыслие и духовный союз «века нынешнего» и «века минувшего» серьезно волновали писателей двадцатого века.
В наши дни остро звучит написанная еще в 1966 году повесть Н.Дубова «Беглец ». Главный герой – Юрка Нечаев — скромный мальчишка, живущий у моря. Он растет в семье сильно пьющих родителей, дорожных рабочих. За свои 13 лет он притерпелся к обидам, привык к вечной ругани родителей, к нареканиям учительницы. Он не знает другого образа жизни. Но где-то в душе у него теплилось сознание того, что нужно жить как-то иначе, не так, как его родители. Новое течение в его жизнь внес случайный знакомый. Этим человеком был архитектор Виталий Сергеевич, который приехал отдохнуть у моря. Сначала привлеченный к Виталию Сергеевичу внешней стороной его завидного существования,- у того и машина «Волга», и красивая палатка, и сладко-таинственная жизнь в Москве,- Юрка постепенно начинает подмечать и нечто глубинное.
Раньше Юрка хотел быть похожим на отца. Нет, не во всем. Отец, когда выпьет, начинает ко всем придираться, ругаться и драться. Зато, когда он трезвый, он лучше всех. С приездом Виталия Сергеевича все незаметно стало меняться. Очень понравилась Юрке доброжелательность, искренность, теплые отношения между новыми знакомыми. «А папка и мамка ругаются то и дело, особенно когда выпьют, а потом он ее бьет». Рядом с Виталием Сергеевичем и Юлией Ивановной мальчик стал задумываться о том, почему он живет так, а не иначе. Внимание автора постоянно направлено на мысли, сомнения, переживания юного героя, в результате которых мальчик приходит к выводу, что он ничуть не хуже других, что он может все исправить.
Но судьба преподносит Юрке жестокие испытания, которые он с честью выдерживает. Внезапно погибает Виталий Сергеевич, и в трагические часы мальчик сталкивается с недостатками, подлыми поступками взрослых: воровством отца, бессердечностью матери. Он гневно говорит родителям правду о них, зная, что его за это будут бить.
После расправы отца Юрка убегает из дома. Он скитается, голодает, подбирает чьи-то объедки, пытается заработать, помогая людям, но его отовсюду гонят. Но ни разу в сознании голодавшего мальчика не возникала мысль о краже! Случайная встреча со знакомым шофером спасает Юрку, мальчика ждет нормальная человеческая жизнь. Но вдруг он узнает о новой беде: от постоянного пьянства ослеп его отец. И Юрка понимает, что все тяготы жизни лягут теперь на плечи матери, а сестренки и братишки будут расти, как бурьян, без призора. И Юрка остается, по-мужски понимая, что он нужен здесь, что матери одной не справиться. Мальчик, который недавно собирался покинуть отчий дом и своего отца, пьяницу и хулигана, почувствовал к нему сострадание и сыновнюю ответственность за его жизнь и жизнь своей семьи.
Н.Дубов, показывая внутренний мир подростка, его нравственное формирование, приводит нас к мысли, что очень часто дети проявляют сострадание и чуткость по отношению к взрослым, которые не всегда умеют им подать достойный пример.
Повесть Н.Дубова «Беглец» в процессе ее изучения, осмысления и анализа (7-9 классы) находит живой отклик у школьников. На завершающем этапе работы над произведением можно предложить ответить им на такие проблемные вопросы:
Как вы считаете, в чем актуальность повести Н.Дубова «Беглец»?
Много лет назад одна юная читательница написала Н.Дубову: «Знаете, за что я вас полюбила? За то, что Вы уважаете детей». Согласны ли вы с этим мнением? Обоснуйте свой ответ.
Как вы оцениваете поступок Юрки, протянувшего руку помощи ослепшему отцу? Почему он забывает обиды и унижения и остается дома? Как бы поступили вы?
В чем, на ваш взгляд, заключается воспитательное значение повести Н.Дубова «Беглец»?
Отвечая на эти вопросы, ребята отмечают, какие
сложные проблемы приходится решать Юрке, они понимают главного героя и сочувствуют ему, потому что многие сами не раз испытывали чувство обиды на взрослых. Умение прощать, которым наделен главный герой, вызывает у учеников уважение. Они считают поступок мальчика благородным, мужественным. Многие ребята, если бы оказались в похожей ситуации, заявили, что поступили бы так же. Это доказывает, что повесть помогает воспитывать в подрастающем поколении сострадание, умение прощать и быть ответственным за своих близких.
В повести В.Тендрякова «Расплата» (1979) , как и в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети», поднята проблема взаимоотношений двух поколений — родителей и детей.
В центре повести трагическая судьба Коли Корякина. Мы видим перед собой высокого худенького подростка с «вытянутой шеей, острым подбородком, бледной невнятной гримасой». Ему нет и шестнадцати, а он уже убийца – убийца родного отца…
Но ни один Коля виноват в этой трагедии. Взрослые, которые окружали мальчика, не предотвратили беду, думали только о своих проблемах. Никто из них не попытался заглянуть в душу взрослеющему ребенку. Никто не понял, что трудн ее всего ему в этой сложной ситуации. В первую очередь, конечно, виноват отец Коли — Рафаил Корякин. Своей разгульной, пьяной, жестокой жизнью он ежедневно провоцировал сына на преступление. Возникает вопрос: «Всегда Рафаил был таким? Что заставило его так ожесточиться на весь мир?» Корни это трагедии гораздо глубже. Мать Рафаила Евдокия родила сына совсем молодой, почти девчонкой. «В позорище зачала. В горестях вынянчила»,- вспоминала она часто. В беседе со следователем Сулимовым Евдокия призналась, что ребенка своего « еще в утробе невзлюбила». И Рафаил всю жизнь чувствовал себя нелюбимым, никому не нужным, даже родной матери. Он не научился любить, даже себя он ненавидел. Поэтому он начал пить. Ежедневно издеваясь над женой и сыном, он издевался и над самим собой. В связи с этим следует вспомнить слова русского мыслителя В.В.Розанова, который точно объяснил эту трагическую закономерность: « Страдания детей , столь несовместимые, по-видимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех …Беспорочность детей и , следова тельно, не виновность их есть явление только кажущееся. В них скрыта порочность отцов , и с нею – их виновность. Она только не проявляется, не выказывается в каких-нибудь разрушительных актах… Но старая вина , насколько она не получила возмездия, в них уже есть . Это возмездие они получают в своем страдании».
Не снимается и вина с матери Коли – тихой, слабой, многострадальной женщины. Ради сына она должна была собрать все свои внутренние силы и волю, чтобы развестись с жестоким мужем и дать возможность мальчишке расти в нормальной семейной обстановке. Спокойное детство ребенка – это первая обязанность матери. Неужели она не понимала, что взрослеющий сын уже не сможет выносить издевательства отца и, рано или поздно, бросится на защиту матери?
В тюремной камере Колька неожиданно понимает, что любил отца, и не может найти спасения от жалости к нему. Он вспоминает все доброе, светлое, чистое, что было в их жизни с отцом, и казнит себя такой казнью, страшней которой не было и нет: «Когда убийца любит убитого, это уже не раскаяние, это уже мука смертная, сильный и разумный не выдержит, а ребенок и подавно…»
В.Тендряков приводит нас, читателей, к мысли, что взрослые всегда ответственны за поступки своих детей. Живя с грехом в душе, родители не понимают, что за это будет расплата… искалеченными судьбами своих детей.
В повести Валентина Распутина «Последний срок» (1970) проблема «отцов и детей» рассматривается писателем в контексте таких понятий, как память, род, семья, дом, мать, которые должны быть для каждого человека основополагающими, духовно формирующими.
В центре повести – образ старухи Анны, оказавшейся на пороге смерти. У постели умирающей матери собираются ее дети, те, ради кого она жила, кому отдала свое сердце, свою любовь. Анна вырастила пятерых детей, еще пятерых она похоронила, а трое погибли на войне. Всю жизнь она только одно и знала: «…ребятишки, которых надо накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, чтобы чем было напоить, накормить их завтра».
Старуха Анна — это дом, его суть, его душа, его очаг. Всю жизнь она прожила в заботе о Доме, о согласии и ладе в семье. Своим детям она часто говорила: «Я помру, а вам еще жить да жить. И видеться будете, в гости друг к дружке приезжать. Не чужие подимте, от одного отца-матери. Только почаще в гости-то ездите, не забывайте брат сестру, сестра брата. И сюда тоже наведывайтесь, здесь весь наш род…»
Еще В.Г.Белинский писал: « Н ет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с н ею!.. Ее высочайшее счастье ви деть вас подле себя , и она посылает вас туда, где, по ее мнению, вам веселее; для вашей пользы, вашего счастья она готова решиться на всегдашнюю разлуку с вами». Так смирилась с разлукой и Анна: разъехались ее дети, устроили свою жизнь, кто как хотел и … забыли о старухе — матери. «Когда картошечки или еще чего-нибудь надо», приезжает только Варвара, а остальных – «будто и на свете нету».
Приехавшие по телеграмме брата Михаила дети даруют матери нежданно-негаданно последний срок: радость такова, что мать как бы раздумала умирать. Рады ли дети минутам общения с матерью, которую так редко видели в последние годы и которую уже никогда не увидят? Понимают ли они, что кажущееся выздоровление Анны – это лишь «последний рывок», последний вдох жизни перед неизбежным концом? С ужасом и возмущением мы видим, что эти дни в тягость им, что все они – Люся, Варвара, Илья – ждут смерти матери. Ждут, повторяя по нескольку раз, жива ли она, и раздражаясь от того, что еще жива. Для них дни последней встречи с Анной – всего лишь потерянное время.
Поглощенность бытом, житейская суетность настолько ожесточили и опустошили их души, что они не способны осознать, прочувствовать все происходящее с матерью. Сковавшее всех первые минуты пребывания рядом с больной Анной напряжение постепенно спадает. Нарушается торжественность момента, разговоры становятся вольными – о заработках, о грибах, о водке. Видя, что мать встала с постели, дети чувствуют, что приехали зря и собираются разъезжаться по домам. Они даже не скрывают раздражения и досады на то, что пришлось впустую потратить время. Горько осознавать это несчастной матери. Она вглядывается в лица детей и не хочет, не может принять произошедших с ними перемен.
Любимица Татьяна и вовсе не приехала проститься с матерью. И хотя Анна понимает,что ждать приезда дочери бесполезно, ее сердце отказывается смириться с этим. Потому она так легко верит «лжи во спасение» Михаила, который говорит, что сам написал сестре, будто матери стало легче и приезжать не надо.
Анна осознает свою ненужность детям, и единственное, чего теперь хочет, поскорее умереть. Умереть, чтобы освободить своих детей от тягостной необходимости оставаться рядом с ней – даже в последние минуты она думает о том, как бы не доставлять им неудобства, не быть для них обузой.
Удивительная совестливость, честность, мудрость, терпеливость Анны, ее жажда жизни, всепоглощающая любовь к детям настолько контрастирует с черствостью, холодностью, равнодушием, душевной пустотой и даже жестокостью ее детей, что болью врезаются в наши сердца отчаянные слова матери, умоляющие родных ей людей не уезжать, остаться хоть на немного: «Помру я, помру. Вот увидите. Седни же. Погодите чутельку. Я говорю вам, что помру, и помру». Но даже этот крик души не способен тронуть сердца детей. Не дождавшись смерти матери, они разъезжаются по домам.
С отъездом детей обрываются последние нити, связывающие Анну с жизнью. Теперь ничто ее не держит, незачем стало ей жить, в сердце погас огонь, согревавший и освещавший ее дни. Она умерла в ту же ночь. «Дети задержали ее на этом свете. Уехали дети – ушла жизнь».
Смерть матери становится для взрослых детей испытанием. Испытанием, которое они не прошли.
В повести «Последний срок» В.Распутин не просто поведал нам о судьбе старухи-матери, о ее нелегкой жизни. Он не просто показал всю широту ее великой души. И не просто нарисовал пугающую своей правдивостью и актуальностью картину взаимоотношений «отцов» и «детей». Писатель раскрыл всю глубину проблемы смены поколений, отразил вечный круговорот жизни, напомнил нам, что, предавая своих близких, отказываясь от идеалов добра, завещанных нам предками, мы, в первую очередь, предаем себя, своих детей, воспитывающихся на примере нравственного вырождения. В.Распутин с тревогой предупреждал нас: «Без памяти своего народа, рода своего, семьи жить и работать нельзя. А иначе мы настолько разъединимся, почувствуем себя одинокими, что это может погубить нас».
О таинственной связи человека с теми силами, которые открываются ему в недрах его семьи и рода, рассуждал и замечательный русский философ И.А.Ильин. По его убеждению, чувство собственного духовного достоинства, стержень здоровой гражданственности и патриотизма рождаются «из духа семьи и рода , из духовно и религиозно осмысленного восприятия своих родителей и предков». Напротив, презрение к прошлому и своимкорням «порождает в человеке безродную, безотечественную, рабскую психологию… Семья есть первооснова Родины».
Эту мысль блестяще выразил А.С.Пушкин:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,-
Залог величия его.
Нынешняя жизнь внесла в извечную проблему «отцов и детей» новые краски: БЕЗОТЦОВШИНА в прямом и переносном смысле. Этому посвящена документальная повесть современного писателя Виктора Николаева «Безотцовщина » (2008). Герои его книги – дети с исковерканными жизнями, для которых улица — мать, подвал – отец. Речь идет о мальчишках и девчонках, по злой иронии судьбы оказавшихся за решеткой. И у каждого ребенка в этой книге — своя правда, которой его научили взрослые. Многие из них лишь в тюрьме узнали, что такое чистое белье и кровать, лишь попав за колючую проволоку, научились есть ложкой и вилкой. Некоторые ребята с удивлением оборачиваются, когда называют их фамилию и имя – они привыкли к кличкам, большинство не умеет писать и читать.
Страшные рассказы детей, попавших в тюрьму, не просто читать, тяжело было и автору посещать тюрьмы, разговаривать с подростками, слушать истории, которые носят в себе эти растущие за колючей проволокой души. Большинство детей сироты, которые за свою короткую жизнь увидели столько плохого, что обычному человеку среднего возраста даже и не снилось. Эти дети – это наша реальность, это пьющие соседи, калечащие своих детей, это дети погибших родственников, которых мы определяем в детские дома, это отказники — младенцы в роддомах, это безотцовщина при живых родителях…
Чередой проходят перед нами судьбы ребят. Петьку, оставшегося без родителей, но жившего с дедом и бабушкой, рьяные социальные работники отправили в детдом, откуда он сбежал. А дальше улица, компания, воровство. Похожая судьба и у Валерки, который был предоставлен сам себе – у пьющей матери не времени было времени на сына. Он в десять лет совершает разбойничье нападение на пьяного соседа. Далее — детский дом, побег, кражи.
Рассказы о судьбах детей перемежаются подлинными письмами преступивших закон подростков. Дети, попав в колонию, начинают постепенно осознавать свою вину, свои грехи. Один подросток в своем письме рассказывает, как мамин крестик спас его от самоубийства. Другой пишет, что храм, который стоит у них на зоне, очень помогает, что Божественная литургия должна быть каждый день. Только так, по его словам, можно хотя бы частично очистить свою душу.
Где же причина преступлений подростков, безнравственности и распущенности, царящей в обществе в наше время? В.Николаев дает свой ответ на этот непростой вопрос. Он считает, что это последствия не вчерашнего дня, не сороковых – девяностых годов. Корень этого находится гораздо глубже — в отвержении Бога, Бога-Отца. И имя того, что происходит – безОтцовщина. И с автором нельзя не согласиться. Ведь еще в прошлые века, когда все русские люди жили верой в Бога и приобщали к ней своих детей, вся семья жила единым целым. Почитание родителей стояло на одной ступени вместе с почитанием Бога, так как именно Господь заповедует почитать родителей. Еще в десяти заповедях, данных Богом через пророка Моисея, мы видим, что пятая заповедь звучит так: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле…» И дети, и родители жили одним – исполнением Божьего Закона. Сейчас, когда немногие семьи строятся на едином духовном начале, на вере Бога, нужно снова обратиться к истокам. Чтобы не стать «Иванами, не помнящими родства», нужно всеми силами пытаться восстановить мир и понимание в семье, научиться прощать. Ведь ближе людей, чем родители и дети, нет.
Знаменитый русский философ И.А.Ильин сказал: « Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю жизнь, и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; и пе рвообраз благого от ца, дарующего питание, справедливость и разумение. Горе человеку, у которого в душе нет места для этих зиждительных и ведущих первообразов, этих живых символов и в то же время творческих источников духовной любви и духовной веры !»
Сочинения по литературе: Проблема отцов и детей в русской литературе Проблема отцов и детей не раз поднималась в русской литературе. Тема эта стара как мир. Является она лишь частью той бесконечной естественной борьбы старого с новым, из которой новое не всегда выходит победителем, и трудно сказать, хорошо это или плохо. Кроме того в семье, от своих родителей, человек получает первые знания о жизни, об отношениях между людьми, поэтому от взаимоотношений в семье между родителями и детьми, зависит то, как в будущем человек будет относится к другим людям, какие нравственные принципы изберет для себя, что для него будет самым главным и святым. К проблеме отцов и детей разные авторы подходят по-разному. Кроме романа И.
С.Тургенева "Отцы и дети", само название которого показывает, что эта тема самая важная в романе, данная проблема существует практически во всех произведениях. Написание романа "Отцы и дети" совпало с важнейшими реформами 19 века, а именно отменой крепостного права. Век знаменовал собой развитие промышленности и естественных наук. Расширилась связь с Европой. В России стали принимать идеи западничества.
"Отцы" придерживались старых взглядов. Молодое поколение приветствовало отмену крепостничества и реформы. С болью осознает поколение уходящих свою слабость, напрасно так уверено в своих силах молодое – в борьбе "отцов и "детей" не бывает победителей. Проигрывают все. Но если нет борьбы, нет прогресса. Если нет отрицания прошлого, нет будущего.
Во времена своих тяжких раздумий о причинах расхождений с сыном Николай Петрович вспоминает эпизод из своей жизни: он поссорился с матерью и заявил ей о том, что она понять его не может, так как они принадлежат к разным поколениям. "Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька – а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю". Он не хочет даже признаться себе, как обижает его и снисходительный тон Аркадия, и его дружба с "нигилистом", и его новые взгляды, а главное, нежелание признать отца равным себе, близким по духу человеком. Николай Петрович не хочет чувствовать себя "отставным человеком", стариком, отжившим. Это естественное непонимание поколений в случае с семейством Курсановых было вызвано появлением человека чуждых взглядов из чуждого круга, поэтому оно быстро сглаживается: Аркадий встречает девушку своего круга, воцаряется мир.
В дальнейшем каждый доказывает другому свою состоятельность: Аркадий успешно занимается хозяйством, а Николай Петрович занялся карьерой: попал в "мировые посредники". Этот "конфликт поколений" доказывает, что между ними больше сходства, взаимопонимания, чем расхождений. Он временный, так сказать, возрастной. И Аркадий успешно его перерос. У него есть все: дом, хозяйство, семья, любимая жена. Базаров лишний в этом списке. Он уходит из жизни Аркадия, идеи которого и были "яблоком раздора". Автор подводит нас к тому, что молодой человек, вероятно, повторит путь своего отца. Столкновение Чацкого - человека с волевым характером, цельного в своих чувствах, борца за идею - с фамусовским обществом было неизбежно.
Это столкновение принимает постепенно все более ожесточенный характер, оно осложняется личной драмой Чацкого - крушением его надежд на личное счастье. Его взгляды против существующих устоев общества становятся все более резкими. Если Фамусов - защитник старого века, времени расцвета крепостничества, то Чацкий с негодованием революционера-декабриста говорит о крепостниках и крепостном праве. В монологе "А судьи кто?" он гневно выступает против тех людей, которые являются столпами дворянского общества.
Он резко высказывается против милых сердцу Фамусова порядков золотого екатерининского века, "века покорности и страха - века лести и спеси". Чацкий разрывает связи с министрами, уходит со службы именно потому, что он желал бы служить делу, а не лакействовать перед начальством. "Служить бы рад, прислуживаться тошно", - говорит он. Он защищает право служить просвещению, науке, литературе, но это трудно в условиях самодержавно-крепостнического строя. Если фамусовское общество с пренебрежением относится ко всему народному, национальному, рабски подражает внешней культуре Запада, особенно Франции, даже пренебрегая своим родным языком, то Чацкий стоит за развитие национальной культуры, осваивающей лучшие, передовые достижения европейской цивилизации. Он сам "искал ума" во время пребывания на Западе, но он против "пустого, рабского, слепого подражанья" иностранцам.
Чацкий стоит за единение интеллигенции с народом. Если фамусовское общество расценивает человека по его происхождению и количеству крепостных душ, имеющихся у него, то Чацкий ценит человека за его ум, образованность, его духовные и моральные качества. Для Фамусова и его круга свято и непогрешимо мнение света, страшнее всего - "что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!" Чацкий отстаивает свободу мыслей, мнений, признает за каждым человеком право иметь свои убеждения и открыто их высказывать.
Этому же следует и Евгений Базаров. В споре с Павлом Петровичем он прямо и открыто отстаивает свои идеи. Базаров принимает только то, что полезно ("Мне скажут дело - я соглашусь". "В теперешнее время полезнее всего отрицание - мы отрицаем"). Евгений отрицает и государственный строй, что приводит Павла Петровича в замешательство (он "побледнел").Отношение к народу Павла Петровича и Базарова разное. Павлу Петровичу религиозность народа, жизнь по заведённым дедами порядкам кажутся исконными и ценными чертами народной жизни, умиляют его.
Базарову же эти качества ненавистны: "Народ полагает, что, когда гром гремит, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне согласиться с ним?" Одно и то же явление и называется по-разному, и по-разному оценивается его роль в жизни народа. Павел Петрович: "Он (народ) не может жить без веры". Базаров: "Грубейшее суеверие его душит". Просматриваются разногласия Базарова и Павла Петровича в отношении к искусству, природе. С точки зрения Базарова, "читать Пушкина – потерянное время, заниматься музыкой смешно, наслаждаться природою – нелепо".
Павел Петрович, напротив, любит природу, музыку. Максимализм Базарова, полагающего, что можно и нужно во всём опираться только на собственный опыт и собственные ощущения, приводит к отрицанию искусства, поскольку искусство как раз и представляет собой обобщение и художественное осмысление чужого опыта. Искусство (и литература, и живопись, и музыка) размягчает душу, отвлекает от дела. Всё это "романтизм", "чепуха". Базарову, для которого главной фигурой времени был русский мужик, задавленный нищетой, "грубейшими суевериями", казалось кощунственным толковать" об искусстве, "бессознательном творчестве" , когда "дело идёт о хлебе насущном".
Они спорят о поэзии, искусстве, философии. Базаров поражает и раздражает Кирсанова своими хладнокровными мыслями об отрицании личности, всего духовного. Но всё-таки, как бы правильно не мыслил Павел Петрович, в какой-то степени его представления устарели. Тем более, его противник имеет преимущества: новизна мыслей, народу он ближе, ведь тянутся же к нему дворовые люди.
Безусловно, принципы и идеалы отцов отходят в прошлое. Но с мыслями нигилиста тоже согласиться нельзя. Любовь к Одинцовой вызвала окончательное поражение его взглядов, показала несостоятельность идей. Я думаю, что и при встрече Базарова с родителями конфликт поколений достигает своего апогея.
Это проявляется прежде всего в том, что ни сам Базаров, ни, даже, пожалуй, автор не знают, как же на самом деле главный герой относится к своим родителям. Его чувства противоречивы: с одной стороны, в порыве откровенности он признается, что любит своих родителей, а с другой – в его словах сквозит презрение к "глупой жизни отцов". И это презрение не наносное, как у Аркадия, оно продиктовано его жизненной позицией, твердыми убеждениями. Отношения с Одинцовой, с родителями доказывают, что даже Базаров не может полностью подавить свои чувства и подчиняться только уму. Трудно объяснить, какое же чувство не позволят ему окончательно отрешиться от родителей: чувство любви, жалости, а, может быть, чувство благодарности за то, что именно они дали первые импульсы, заложили основу для развития его личности. В разговоре с Аркадием Базаров утверждает, что "всякий человек сам себя воспитывать должен – ну хоть как я".
Словарь В.И.Даля.
«Чтить - иметь почтение, уважение». Соответственно, почтительный - почитающий, уважающий. Что касается значения слова «чтить», «честь».
Вывод:
И.С.Тургенев «Отцы и дети».
- Ты их любишь Евгений?
- Люблю, Аркадий.
- Я помню, как мне в детстве
Хотелось быть взрослей.
Сейчас куда бы деться
От взрослости своей?
Не стоит торопиться
И забегать вперёд,
И что должно случиться,
Тому придёт черёд.
Придёт пора влюбиться,
Пора сойти с ума,
Вернулись с юга птицы,
А здесь ещё зима.
Вернулись с юга птицы,
Да не спешит весна.
Не стоит торопиться,
Хоть жизнь у всех одна.
Д/З
Просмотр содержимого документа
«Проблема "отцов и детей" в произведениях современных писателей »
Проблема «отцов и детей» в произведениях современных писателей.
Чего не губит пагубный бег времени?
Ведь хуже дедов наши родители,
Мы – хуже их, а наши будут
Дети и внуки ещё порочней.
Квинт Гораций Флакс
Слово учителя.
Конфликт отцов и детей родился не вчера. «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмёт в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна»
Гесиод, VII век до н.э.
Есть два универсальных состояния человеческого бытия
Мир война
согласие, ожесточение
покой конфликт
умиротворённость противостояние
Эти два состояния характеризуют и семейные отношения, отношения разных поколений. Абсолютизированный мир вовсе не означает полный покой, отсутствие всякого движения, напротив, этот мир в семье – наиболее продуктивный источник позитивных изменений, когда глубокие культурные традиции отцов в идеальных пропорциях соединяются с пылкостью, решительностью, честолюбием детей и вместе становятся мощной созидательной силой. Долг старшего поколения – передать потомкам всё лучшее, что переняли они у своих предков, всё, что познали сами. Молодые же люди должны быть достаточно разумными, чтобы не обрубить духовных корней, и достаточно критичными, чтобы найти в себе силы отказаться от всего наносного, эфемерного, и со всем юношеским пылом предаться мечте.
Чтобы ответит, какое отражение нашли эти процессы в современной литературе, мы должны познакомиться с произведениями В.Распутина «Последний срок» и «Пожар», Ю.Трифонова «Обмен», В.Быкова «Облава», Ф.Абрамова «Алька».
Вопросы к семинару.
Почему возникла проблема «отцов и детей», в чём её истоки? Потеряла ли она актуальность сегодня?
Как соотносятся идеалы «отцов и детей»?
Почему новое поколение не приемлет прежние взгляды на жизнь?
Что человек утратил, оторвавшись от родной земли и устремившись в шумные города?
Есть ли у молодого поколения вера? Что или кто является для юношей и девушек кумиром?
Одна из исконных русских черт, без которой не мыслится наш соотечественник,- его теснейшая связь с родной землёй, безмерная любовь к родной стране. Само слово «Отечество» светится искренней, трогательной, сыновней любовью. Кто виноват, что нарушена связь с родным домом, с малой родиной?
Дмитрий Сергеевич Лихачёв считал: « Память противостоит уничтожающей силе времени». «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни», - утверждает Валентин Распутин. Как решается проблема памяти в современной литературе?
Пятая заповедь Божия гласит: «Чти отца своего и матерь твою, чтобы продлить дни твои на земле».
Давайте установим лексическое значение таких слов, как чтить, почитать, почтительность , у которых один и то же корень. Им близки по смыслу понятия – уважение, благоговение, честь.
Словарь В.И.Даля.
«Чтить – иметь почтение, уважение». Соответственно, почтительный – почитающий, уважающий. Что касается значения слова «чтить», то его значение, по Далю, напрямую выходит из слова «честь».
Вывод: Чтить уважать, но уважать не формально, показушно, а душой. И, что не менее важно, почтение предполагает сочетание любви с уважением.
И.С.Тургенев «Отцы и дети». Евгений Базаров любит своих родителей.
- Ты их любишь Евгений?
- Люблю, Аркадий.
Да и перед смертью, которая для этого сильного человека явилась проверкой на прочность, г-н нигилист просит Одинцову приласкать стариков, потому что таких людей, как они, в высшем свете «днём с огнём не сыскать».
Но почитает ли Базаров отца и мать?
Окончив университет, будущий лекарь не торопится в отчий дом.
Исследователь Сергей Штильман отмечает: « Как ни странно, Базаров уже одним тем, что не почитал своих родителей, был обречён на смерть в самом начале своей сознательной жизни».
Согласны ли вы с этим мнением? Почитают ли своих родителей герои современных произведений?
Я помню, как мне в детстве
Хотелось быть взрослей.
Сейчас куда бы деться
От взрослости своей?
Не стоит торопиться
И забегать вперёд,
И что должно случиться,
Тому придёт черёд.
Придёт пора влюбиться,
Пора сойти с ума,
Вернулись с юга птицы,
А здесь ещё зима.
Вернулись с юга птицы,
Да не спешит весна.
Не стоит торопиться,
Хоть жизнь у всех одна.
Андрей Дементьев «Разговор с сыном»
Как вы понимаете слова поэта?
Д/З написать сочинение-рассуждение
«… я гляжу на наше поколенье», подобрав подходящее определение.
Проблема отцов и детей в русской литературе. Людей во все времена волновали вечные проблемы бытия: проблемы жизни и смерти, любви и брака, выбора верного пути… Все меняется в этом мире, и только общечеловеческие нравственные потребности остаются неизменными независимо от того, какое время «на дворе».
Проблема отцов и детей (конфликт и преемственность поколений) существовала всегда, и в настоящее время она остается актуальной.
Естественно, что эта тема нашла свое отражение во многих произведениях русской классической литературы: в комедии «Недоросль» Фонвизина, в «Горе от ума» Грибоедова, в повести «Станционный смотритель», в «Скупом рыцаре», в трагедии «Борис Годунов» Пушкина, в романе «Отцы и дети» Тургенева.
«Яблочко от яблоньки далеко не падает» - гласит старинная русская пословица. Действительно, каждое последующее поколение наследует от предыдущего не только материальные ценности, но и основные мировоззренческие и жизненные принципы. Когда принципы, выработанные «веком минувшим», не принимаются «веком нынешним», возникает конфликт поколений. Этот конфликт не всегда имеет возрастной характер. Иногда даже случается так, что представители двух разных поколений одинаково смотрят на жизнь. Вспомним Фамусова. Как восхищается он своим дядей Максимом Петровичем! Он полностью разделяет его взгляды, стремится подражать ему и постоянно ставит в пример молодежи, в частности Чацкому:
А дядя! Что твой князь? что граф?
Сурьезный взгляд, надменный нрав.
Когда же надо подслужиться,
И он сгибался вперегиб…
Разделяет взгляды старшего поколения и Софья. Ее отношение к Чацкому разве не показатель? Вспомним, как реагирует Фамусов на его речи, обличающие никчемность, пошлость и невежество светского общества: «Ах! боже мой! он карбонари!… Опасный человек!» Похожая реакция и у Софьи: «Не человек - змея». Вполне понятно, почему она предпочла Молчалина, «бессловесного» и тихого, Чацкому, который «славно пересмеять умеет всех». «Муж-мальчик, муж-слуга» - вот идеальный спутник жизни для светских дам: и для Натальи Дмитриевны Горич, и для княгини Тугоуховской, и для графини-внучки, и для Татьяны Юрьевны, и для Марьи Алексевны… И Молчалин прекрасно подходит на эту роль, роль безупречного мужа:
Молчалин для других себя забыть готов,
Враг дерзости, - всегда застенчиво, несмело
Ночь целую с кем можно так провесть!..
Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит,
Рука с рукой, и глаз с меня не сводит…
Надо сказать, что Молчалин тоже разделяет взгляды старшего поколения, что очень помогло ему в жизни. Придерживаясь завета отца,
Во-первых, угождать всем людям без изъятья -
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платье,
Швейцару, дворнику для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была,
он и добился чина асессора, и стал секретарем у московского «туза» Фамусова, его любит светская барышня. В итоге он стал незаменимым посетителем всевозможных балов и приемов:
Там моську вовремя погладит,
Тут впору карточку вотрет.
Добился «степеней известных», последовав отцовскому совету, и другой, не менее популярный герой - Чичиков из гоголевских «Мертвых душ». «Угождай учителям и начальникам», - наказывал ему отец. И что мы видим: Чичиков закончил училище с хорошими отметками, так как постоянно льстил и пресмыкался перед своим учителем, добился повышения по службе, ухаживая за дочкой начальника. А наставление отца «береги и копи копейку» стало для Павла Ивановича основным жизненным правилом.
Люди от своих родителей, надо сказать, наследуют не только плохое, но и хорошее. Вспомним Петра Гринева. В его семье были высокие представления о чести и долге, поэтому его отец такое большое значение придавал словам: «Береги честь смолоду». И как мы видим, для Гринева честь и долг - превыше всего. Он не соглашается присягнуть Пугачеву, не идет с ним на какие-нибудь компромиссы (отказывается дать обещание, что не будет воевать против восставших), предпочитая смерть малейшему отступлению от велений совести и долга.
Конфликт между поколениями имеет две стороны: нравственную и социальную. Социальные конфликты своего времени показали Грибоедов в «Горе от ума» и Тургенев в «Отцах и детях». «Век минувший» не хочет признавать «век нынешний», не хочет сдавать свои позиции, вставая на пути всего нового, на пути социальных преобразований. Конфликты Чацкого и Фамусова, Базарова и Павла Петровича имеют не только нравственный, но и социальный характер.
И надо отметить одну особенность этих столкновений: молодое поколение отличается от старого патриотичностью взглядов. Это ярко выражено в обличительных монологах Чацкого, который полон презренья к «чужевластью мод»:
Я одаль воссылал желанья Смиренные, однако вслух,
Чтоб истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья,
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою возжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой.
Базаров, как и Чацкий, тоже выступает представителем прогрессивной мыслящей молодежи. Он обвиняет «век минувший» в раболепии перед всем иностранным, в презрении к русскому. В лице Павла Петровича И. С. Тургенев изобразил либерала по убеждению с чертами крепостника. Он презирает простой народ: говоря с крестьянами, он «морщится и нюхает одеколон». В эпилоге к «Отцам и детям» мы видим Кирсанова живущим за границей. На столе у него стоит «пепельница в виде мужицкого лаптя» - это все, что связывает его с Россией.
Крепостничество, консервативность взглядов, боязнь всего нового, безразличие к судьбе России - вот основные предметы споров между отцами и детьми, примеры которых нам дает русская литература.
Нравственная сторона конфликта по своему характеру более трагична, чем социальная, ибо задевается душа человека, его чувства.
Очень часто дети, когда вырастают и начинают жить самостоятельной жизнью, уделяют своим родителям все меньше и меньше внимания, все больше отдаляются от них.
В повести Пушкина «Станционный смотритель» дочь главного героя Дуня убежала в Петербург с проезжим гусаром. Ее отец очень волновался за нее, за ее будущее. Он по-своему желал Дуне счастья. В этом случае конфликт между отцом и дочерью заключается в разном понимании счастья.
Деньги, как известно, пагубно влияют на душу человека. Под их воздействием меняются отношения между людьми, даже между родными. Жажда денег, стремление к наживе, скупость и постоянные опасения за свой капитал - все это вызывает оскудение души человека и потерю важнейших качеств: совести, чести, любви. Это ведет к непониманию в семье, к непрочности родственных уз. Это прекрасно показал Пушкин в «Скупом рыцаре»: деньги разъединили старого барона и его сына, встали на пути их сближения, разбив надежду на взаимопонимание и любовь.
Итак, как мы видим, проблема отцов и детей нашла наиболее полное отражение в русской классической литературе, многие писатели обращались к ней, считая ее одной из злободневных проблем современной им эпохи. Но эти произведения популярны и актуальны и в наше время, что свидетельствует о том, что проблема взаимоотношений между поколениями принадлежит к вечным проблемам бытия.