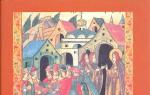Миклухо маклай изучал народы. Миклухо-маклай николай николаевич
Ровно 130 лет назад – 14 апреля 1888 года ушел из жизни знаменитый русский этнограф, биолог, антрополог и путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай, большую часть своей жизни посвятивший изучению коренного населения Австралии, Океании и Юго-Восточной Азии, в том числе папуасов северо-восточного побережья Новой Гвинеи, называемого сегодня Берегом Маклая (участок северо-восточного побережья острова Новая Гвинея между 5 и 6° южной широты протяженностью порядка 300 километров, между заливом Астролябия и полуостровом Хуон). Его исследования были высоко оценены еще при жизни. Учитывая его заслуги, день рождения Миклухо-Маклая 17 июля неофициально отмечается в России как профессиональный праздник – День этнографа.
Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился 17 июля 1846 года (5 июля по старому стилю) в селе Рождественском (сегодня это Языково-Рождественское Окуловского муниципального района Новгородской области) в семье инженера. Его отец Николай Ильич Миклуха был железнодорожником. Мать будущего этнографа звали Екатерина Семёновна Беккер, она была дочерью героя Отечественной войны 1812 года. Вопреки достаточно распространенному заблуждению, Миклухо-Маклай не имел каких-то существенных иностранных корней. Распространенная легенда о шотландском наемнике Микаэле Маклае, который, прижившись в России, стал основателем рода, была лишь легендой. Сам путешественник происходил из незнатного казачьего рода Миклух. Если же говорить о второй части фамилии, то впервые он использовал ее в 1868 году, подписав так первую научную публикацию на немецком языке «Рудимент плавательного пузыря у селахий». При этом историки так и не смогли прийти к единому мнению о том, по какой причине возникла эта двойная фамилия Миклухо-Маклай. Рассуждая о своей национальности, в предсмертной автобиографии этнограф указывал на то, что он представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского.
Удивительно, но в школе будущий этнограф учился достаточно плохо, часто пропуская занятия. Как он признавался спустя 20 лет, в гимназии он пропускал уроки не только по нездоровью, но и просто от нежелания учиться. В 4-м классе Второй Петербургской гимназии он провел два года, причем в 1860/61 учебном году посещал занятия очень редко, пропустив в общей сложности 414 уроков. Единственная оценка «хорошо» была у Миклухи по французскому языку, по немецкому языку у него стояло «удовлетворительно», по остальным предметам – «худо» и «посредственно». Еще будучи гимназистом Миклухо-Маклай оказался заключенным в Петропавловскую крепость, его отправили туда вместе с братом за участие в студенческой манифестации, которая была вызвана общественно-политическим подъемом 1861 года и была связана с отменой в стране Крепостного права.
Фотография Николая Миклухи - студента (до 1866 года)
В советское время в биографии этнографа указывалось, что из гимназии, а затем и из университета Миклухо-Маклая отчислили за участие в политической деятельности. Но это неправда. Гимназию будущий знаменитый путешественник покинул по собственному желанию, а из университета его просто не могли отчислить, так как он находился в нем на правах вольнослушателя. Он не закончил учебу в Санкт-Петербурге, уехав в Германию. В 1864 году будущий этнограф учился на философском факультете Гейдельбергского университета, в 1865 году – на медицинском факультете Лейпцигского университета. А 1866 году перебрался в Йену (университетский город в Германии), где на медицинском факультете занимался изучением сравнительной анатомии животных. В качестве ассистента немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля он посетил Марокко и Канарские острова. В 1868 году Миклухо-Маклай закончил обучение в Йенском университете. Во время первой экспедиции на Канарские острова будущий исследователь изучал морские губки, обнаружив в результате новый вид известковой губки, назвав ее Guancha blanca в честь коренных обитателей данных островов. Любопытно, что с 1864 по 1869, с 1870 по 1882 и с 1883 по 1886 годы Миклухо-Маклай проживает за пределами России, никогда не оставаясь на своей родине больше чем на один год.
В 1869 году он совершил путешествие на побережье Красного моря, целью путешествия было исследование здешней морской фауны. В том же году он вернулся назад в Россию. Первые научные исследования этнографа были посвящены сравнительной анатомии морских губок, мозга акул, а также иным вопросам зоологии. Но во время своих путешествий Миклухо-Маклай проводил и ценные географические наблюдения. Николай склонялся к версии о том, что культурные и расовые признаки народов мира формируются под влиянием социальной и природной среды. Для того чтобы обосновать данную теорию, Миклухо-Маклай решил предпринять дальнее путешествие на острова Тихого океана, здесь он собирался изучить «папуасскую расу». В конце октября 1870 года при содействии со стороны Русского географического общества путешественник получил возможность выехать в Новую Гвинею. Сюда он отправился на борту военного судна «Витязь». Его экспедиция была рассчитана на несколько лет.
20 сентября 1871 года «Витязь» высадил Маклая на северо-восточном побережье Новой Гвинеи. В будущем данный район побережья назовут Берегом Маклая. Вопреки ошибочным представлениям, он путешествовал не в одиночку, а в сопровождении двух слуг – юноши с острова Ниуэ по кличке Бой и шведского матроса Ольсена. При этом при помощи членов экипажа «Витязя» была сооружена хижина, ставшая для Миклухо-Маклая не только жильем, но и подходящей лабораторией. Среди местных папуасов он прожил 15 месяцев в 1871-1872 годах, своим тактичным поведением и дружелюбием он сумел завоевать их любовь и доверие.

Корвет «Витязь» под парусами
Но первоначально Миклухо-Маклай считался среди папуасов не богом, как принято считать, а совсем наоборот, злым духом. Причиной такого отношения к нему стал эпизод в первый день знакомства. Увидев корабль и белых людей, островитяне подумали, что это вернулся Ротей – их великий предок. Большое количество папуасов отправились на своих лодках к кораблю, для того чтобы преподнести прибывшему подарки. На борту «Викинга» их также хорошо приняли и одарили, однако уже на обратном пути с борта корабля вдруг раздался пушечный выстрел, так экипаж салютовал в честь своего прибытия. Однако островитяне со страха буквально повыпрыгивали из собственных лодок, бросили подарки и вплавь устремились к берегу, решив, что к ним явился не Ротей, а злой дух Бука.
Переменить ситуацию в дальнейшем помог папуас по имени Туй, который был смелее остальных островитян и сумел подружиться с путешественником. Когда Миклухо-Маклаю удалось вылечить Туя от тяжелого ранения, папуасы приняли его в свое общество, как равного себе, включив в местный социум. Туй же длительное время оставался переводчиком и посредником этнографа в его отношениях с другими папуасами.
В 1873 году Миклухо-Маклай посетил Филиппины и Индонезию, а уже в следующем году побывал на юго-западном берегу Новой Гвинеи. В 1874-1875 годах он вновь дважды путешествовал по полуострову Малакка, изучая местные племена сакаев и семангов. В 1876 году совершил путешествие в Западную Микронезию (острова Океании), а также Северную Меланезию (посетив, различные островные группы в Тихом океане). 1876 и 1877 годах он снова побывал на Берегу Маклая. Отсюда он хотел вернуться назад в Россию, однако из-за тяжелой болезни путешественник вынужден был поселиться в австралийском Сиднее, где проживал до 1882 года. Недалеко от Сиднея Николай основал первую в Австралии биологическую станцию. В этот же период своей жизни он совершил поездку по островам Меланезии (1879), а также осмотрел южный берег Новой Гвинеи (1880), а спустя год – в 1881 он второй раз побывал на южном побережье Новой Гвинеи.

Миклухо-Маклай с папуасом Ахматом. Малакка, 1874 или 1875 год
Любопытным представляется тот факт, что Миклухо-Маклай занимался подготовкой российского протектората над папуасами. Он несколько раз осуществлял экспедицию в Новую Гвинею, составив так называемый «проект развития Берега Маклая». Его проект предусматривал сохранение уклада жизни папуасов, но одновременно с этим декларировал достижение более высокой ступени самоуправления на основе уже имеющихся местных обычаев. При этом Берег Маклая, по его планам, должен был получить протекторат Российской империи, став также одним из пунктов базирования российского флота. Но его проект оказался неосуществимым. К моменту третьего путешествия в Новую Гвинею большинство его друзей среди папуасов, включая Туя, уже умерли, одновременно с этим жители деревень погрязли в междоусобных конфликтах, а офицеры русского флота, которые изучили местные условия, сделали заключение о том, что местное побережье не подходит для размещения военных кораблей. А уже в 1885 году Новую Гвинею разделили между собой Великобритания и Германия. Таким образом, вопрос о возможности реализации российского протектората над этой территорией был закрыт окончательно.
Миклухо-Маклай вернулся на родину после длительного отсутствия в 1882 году. После возвращения в Россию он прочел некоторое количество публичных докладов о своих путешествиях перед членами Географического общества. За его исследования общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило Николаю золотую медаль. Посетив затем европейские столицы – Берлин, Лондон и Париж, он знакомил публику с результатами своих поездок и проведенных исследований. Затем он вновь отправился в Австралию, побывав по пути уже в третий раз на Берегу Маклая, это произошло в 1883 году.
С 1884 по 1886 годы путешественник жил в Сиднее, а в 1886 году снова вернулся на родину. Все это время он тяжело болел, но при этом продолжал заниматься подготовкой к публикации своих научных материалов и дневников. В том же 1886 году он передал Академии наук в Петербурге все собранные им с 1870 по 1885 год этнографические коллекции. Сегодня эти коллекции можно увидеть в Музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге.

Миклухо-Маклай зимой 1886-1887 годов. Санкт-Петербург
Вернувшийся в Петербург путешественник сильно изменился. Как отмечали знающие его люди, 40-летний еще молодой ученый резко одряхлел, ослаб, его волосы стали седыми. Вновь проявили себя боли в челюсти, которые усилились в феврале 1887 году, появилась опухоль. Врачи не могли поставить ему диагноз и не могли определить причину болезни. Лишь во второй половине XX века медики сумели снять завесу тайны с этого вопроса. Этнографа погубил рак с локализацией в области правого нижнечелюстного канала. Ровно 130 лет назад 14 апреля 1888 года (2 апреля по старому стилю) Николай Николаевич Миклухо-Маклай скончался, ему был всего 41 год. Похоронен путешественник был на Волковском кладбище в Петербурге.
Самой главной научной заслугой ученого стало то, что он поставил вопрос о видовом единстве и родстве существующих человеческих рас. Также именно он впервые дал подробное описание меланезийского антропологического типа и доказал, что он очень широко распространен на островах Юго-Восточной Азии и в Западной Океании. Для этнографии огромное значение представляют его описания материальной культуры, хозяйства и быта папуасов и других народов, населяющих многочисленные острова Океании и Юго-Восточной Азии. Многие наблюдения путешественника, отличающиеся большим уровнем точности, и в настоящее время остаются практически единственными материалами по этнографии некоторых островов Океании.
При жизни Николая Николаевича было опубликовано более 100 его научных работ по антропологии, этнографии, географии, зоологии и иным наукам, всего же он написал более 160 таких работ. В то же время при жизни ученого не было опубликовано ни одной его крупной работы, все они появились лишь после его смерти. Так в 1923 году впервые вышли Дневники путешествий Миклухо-Маклая, а еще позднее – в 1950-1954 годах собрание сочинений в пяти томах.

Портрет Миклухо-Маклая, выполненный К. Маковским. Хранится в Кунсткамере
Память исследователя и этнографа широко сохранена не только в России, но и по всему миру. Его бюст можно сегодня встретить и в Сиднее, а в Новой Гвинее в его честь названы гора и река, без учета участка северо-восточного побережья, который носит название Берег Маклая. В 1947 году имя Миклухо-Маклая было присвоено институту этнографии АН СССР (РАН). А сравнительно недавно в 2014 году Российским географическим обществом была учреждена специальная Золотая медаль имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая, как высшая награда общества за этнографические исследования и путешествия. О мировом признании данного исследователя говорит и тот факт, что в честь его 150-летия 1996 год был провозглашен ЮНЕСКО годом Миклухо-Маклая, тогда же он был назван Гражданином мира.
По материалам из открытых источников.
Первым европейцем, отправившимся в Океанию специально для антропологических и этнографических исследований, был русский ученый Н. Н. Миклухо-Маклай (1870).
К тому.времени о населении Микронезии и Полинезии уже имелись кое-какие сведения, хотя и не всегда достоверные и далеко не для всех групп островов. Но о населении Меланезии почти ничего не было известно. Отсутствие точных сведений, основанных на серьезном научном наблюдении, порождало всякие легенды и слухи. Вот почему Миклухо-Маклай избрал Меланезию главным объектом своих исследований. В первую очередь он обратил внимание на Новую Гвинею.
Миклухо-Маклай провел в общей сложности 2 1 / 2 года на северо-восточном берегу, в районе залива Астролябия (1871-1872, 1876-1877, 1883), а также посетил западный (1874) и южный (1880 и 1881) берега Новой Гвинеи. Можно сказать, что если Менезес открыл остров, то Миклухо-Маклай открыл людей на этом острове. Он дал первые научные сведения об антропологическом типе, культуре и быте папуасов.
Помимо этого, Миклухо-Маклай обследовал во время своих поездок, хотя и более бегло, многие другие острова Меланезии, особенно архипелаг Адмиралтейства. Он побывал проездом и на островах Полинезии, дал хорошее описание островов западной Микронезии - Яп и Палау.
Научное наследство Миклухо-Маклая имеет огромное значение. Не говоря уже о том, что этот ученый серьезно изучил те районы Меланез г главным образом Новую Гвинею,куда до него не ступала нога европейца,- его материалы представляют исключительную ценность по своей достоверности, по тому методу, при помощи которого они собирались. Миклухо- Маклай был необычайно добросовестным ученым. Он писал вообще мал!о и никогда не позволял себе писать и тем более печатать что-либо о вещах, которых он сам не наблюдал. Все то, что содержится в научных статьях или в дневниках Маклая,- это точно установленные факты. На обобщения Маклай был скуп и всегда проверял помногу раз свои наблюдения. Чрезвычайно ценны антропологические исследования " Миклухо-Маклая. Убежденный антирасист, всю жизнь боровшийся против «теорий» неравноценности человеческих рас, Миклухо-Маклай собрал огромный и разнообразный материал среди папуасов и других народов изученных им стран, показывающий ложность мнений о якобы «обезьяноподобных» чертах в физическом типе жителей этой страны. Но не менее ценны и чисто этнографические наблюдения Миклухо-Маклая. Они важны тем, что Миклухо- Маклай имел возможность в течение долгого времени наблюдать местных жителей в их повседневном быту. Он описывает будничную жизнь папуасов, рисует живые картинки их семейного и общественного быта, дает яркие портреты отдельных лиц, своих друзей. Он впервые описал жителей Меланезии как полноценных представителей* человечества. Миклухо- Маклай видел в папуасах живых людей, а не только объект наблюдений, как многие зарубежные ученые. Чрезвычайно точны и обстоятельны описания предметов материальной культуры, сопровожденные многочисленными рисунками самого Миклухо-Маклая. Он привез в Россию много вещественных коллекции, ныне хранящихся в Музее антропологии и этнографии Академии наук в Ленинграде.
Колониальный раздел
Годы путешествий Миклухо-Маклая - это одновременно годы, когда Англия, Франция, Германия и США завершали дележ Океании.
Но «ничьих» земель было еще много, и возможности колониального" захвата были достаточно велики.
В 1874 г. Англия объявила о-ва Фиджи своей колонией. В 1884 г. Германия аннексировала северо-восточную часть Новой Гвинеи, а Англия - юго-восточную. В 1885 г. Германия прибрала к рукам Новую Британию и Новую Ирландию. В 1886-1893 гг. Англия захватила южные Соломоновы острова, Германия - северные острова той же группы, а также Маршалловы острова. Протесты Миклухо-Маклая против захватов остались гласом вопиющего в пустыне. В 1888 г. Германия захватила о-в Науру, Англия о-ва Кука, Манихики, Крисмас, Фаннинг, Чили заняла о-в Пасхи. В 1898 г. США окончательно установили свое господство на Гавайских островах. Англия в 1898 г. присоединила о-ва Санта-Крус. В 1899 г. Германия заняла Марианские острова (кроме о-ва Гуам), Каролинские и Маршалловы, США-о-в Гуам. В этом же году США и Германия поделили между собой о-ва Самоа. Англия в 1900 г. установила «протекторат» над архипелагом Тонга, а в 1906 г. Англия и Франция установили «совместное управление» («кондоминиум») на Новых Гебридах. На этом раздел Океании был завершен.
Захват Океании сопровождался падением численности ее коренного населения. Численность полинезийцев в целом от 1100 тыс. до колонизации упала к 1890 г. до 180 тыс., численность микронезийцев от 200 тыс.- до 83 тыс.
В XX в. дважды состоялся передел Океании между империалистическими державами. После первой мировой войны германские владения в Меланезии отошли к Австралии, Западное Самоа - к Новой Зеландии, германские колонии в Микронезии - к Японии. После второй мировой войны японские владения в Микронезии были оккупированы Соединенными Штатами Америки.
Изучение Меланезии и Микронезии в конце XIX и начале XX в.
Колониальный раздел и передел островов Океании требовал более обстоятельного их изучения. Так как Полинезия была к концу XIX в. уже довольно хорошо изучена, внимание исследователей направилось теперь преимущественно на Меланезию - частью и на Микронезию.
К последним десятилетиям XIX в. относятся долголетние наблюдения над бытом островитян Меланезии миссионера Роберта Кодрингтона и служащего германской торговой компании Р. Паркинсона. Оба 1 они принадлежали к числу первых исследователей Меланезии, в то время очень слабо еще известной. Кодрингтон провел в качестве миссионера около- 25 лет на разных островах Меланезии, близко общаясь с островитянами изучил их языки. Труд Кодрингтона «Меланезийцы» (Оксфорд, 1891), обобщивший собранные им материалы, считается классическим. В частности, Кодрингтон первый познакомил ученый мир с обнаруженной им у меланезийцев своеобразной формой верований - с верой в сверхъестественную силу мана. Сообщение это вызвало большой интерес и даже повлияло на возникновение новой «преанимистической» теории происхождения религии. Помимо чисто этнографических материалов, Кодрингтон дал одно из первых серьезных описаний меланезийских языков («The Melanesian languages», 1885). Паркинсон провел значительную часть своей жизни на архипелагеБисмарка и других островах Меланезии и впоследствии опубликовал свои богатые наблюдения в книге «Тридцать лет в Океании». Несмотря на далекий от подлинного гуманизма дух обоих исследователей, материалы их, достаточно добросовестно собранные, представляют большую научную ценность.
Немало этнографических сведений содержится и в работе Джорджа Брауна «Меланезийцы и полинезийцы» (1910). Браун жил в качестве миссионера в Океании 48 лет, сначала на Самоа (1860-1874), а затем на разных островах Меланезии и хорошо изучил несколько местных диалектов.
Помимо стационарных наблюдений, с конца XIX в. получили особое значение экспедиционные исследования, направлявшиеся в наименее изученные области Океании.
Впереди шли немцы, преследовавшие свои определенные политические цели. В 1874-1876 гг. в водах Тихого океана плавал немецкий корвет «Газель», которому было дано задание обследовать острова архипелага, позднее названного именем Бисмарка. Этнографические наблюдения были возложены на лейтенанта Штрауха, сумевшего собрать и привезти в Берлинский музей богатые вещественные коллекции. В 1884- 1885 гг. совершило аналогичную экспедицию судно «Самоа», на котором плавал известный этнограф Финш. Он, впрочем, занимался научными наблюдениями лишь попутно, ибо главная цель экспедиции заключалась в захвате островов. Сам Финш этого нисколько не скрывал. С 1890-х годов начались исследовательские поездки врача и натуралиста Августина Крэмера (немца, родом из Чили), который занимался больше Полинезией (он служил военным врачом на архипелаге Самоа) и Микронезией, но не оставлял без внимания и Меланезию, особенно Новую Ирландию, где он. описал подробно любопытный культ, связанный с масками малангапе. В дальнейшем Крэмер принимал участие в обширной Немецкой океанийской экспедиции 1908-1910 гг. (организованной Гамбургским научным институтом), которая работала главным образом на островах Микронезии, но частью и в Северной Меланезии. Материалы этой экспедиции, выходив-, шие под общей редакцией Тилениуса, до сих пор полностью не опубликованы.
Англичане, соперничавшие с немцами в расширении своих колониальных владений в Океании, послали в 1898 г. большую экспедицию на острова Торресова пролива. Экспедиция была организована Кембриджским университетом, этнографические исследования вели главным образом Хэддон и Риверс. Они, в частности, установили, что на островах Торресова пролива, расположенных между Австралией и Новой Гвинеей, сочетаются элементы австралийской (преобладающей на западных островах) и папуасской (преобладающей на восточных) культур.
В предвоенные годы интерес этнографов к Меланезии неуклонно возрастал. Туда направлялись видные европейские ученые, ставившие перед собой уже не прежние цели собрать какой придется материал, а вполне конкретные и более или менее узко специальные научные задачи. Так, в 1906-1909 гг. на островах архипелага Бисмарка и северных Соломоновых работал этнограф-социолог Рихард Турнвальд, специально занимавшийся вопросами первобытного обычного права, формами семейно-общественного быта: из-под его пера вышел затем ряд специальных монографий и статей по этим вопросам. В 1908 г. острова Меланезии объехал тот же Риверс, в этот период своей деятельности увлекавшийся изучением форм брака и систем родства. Однако в процессе обработки собранного материала этот исследователь далеко вышел за рамки поставленной себе задачи и попытался нарисовать широкую картину «исторического» развития меланезийского общества в духе входившего тогда в моду диффузио- низма. Результатом была двухтомная «The history of Melanesian society» (1914), оказавшая очень сильное влияние на мировую этнографическую литературу, не совершенно исказившая действительную историю народов Океании (см. гл. 12 «Происхождение народов Океании»).
Из других научных путешествий заслуживает быть отмеченной поездка швейцарца Феликса Шпейзера (1910-1912). Он посетил ряд островов, главным образом, южной Меланезии. В отличие от своих предшественников, Шпейзер старался собрать возможно более полный и разнообразный материал. К этому времени на многих островах самобытная культура уже заметйо пЪдчинилась европейскому влиянию. Тем не менее Шпейзеру удалось, Дополнйв собственные наблюдения исчерпывающим подбором данных из сообщений старых путешественников, составить капитальное опи- сайиё коренного населения южной Меланезии - Новых Гебрид и островов Банке («Ethnographische Materialien aus den Neuen Hebriden und den Banks-Inseln», 1923).
Интересны исследования английского этнографа, поляка по происхождение, Бронислава Малиновского, накануне первой мировой войны посетившего Океанию, прожившего несколько месяцев на о-вах Тробриан. Малиновскому удалось открыть своеобразную систему ритуального обмена пула, связанную с целой цепью обычаев и поверий. Он опубликовал о жителях о-вов Тробриан несколько объемистых книг и статей 1 , которые возбудили в ученом мире немалый интерес. Но Малиновский в значительной мере обесценил материал своих исследований тем, что пытался подтвердить им свой пресловутый метод «функционального» анализа. Согласно этому методу этнограф должен исследовать не историческое происхождение наблюдаемых им явлений (что, по мнению Малиновского и других «функционалистов», вообще недоступно познанию), а лишь их значение, их «функции» в общественной жизни. В советской научной литературе уже не раз отмечалось, что теоретические основы «функционального» метода очень далеки от подлинной науки. Известно также, что этот метод в значительной мере стал служебным средством для британской колониальной администрации: ее служащие, проходящие специальную «антропологическую» подготовку, изучают «функции» местных обычаев, общественных институтов для того, чтобы, опираясь на них, превратить их в средство колониального управления. Все это, однако, не лишает материалы, собранные в книгах Малиновского, большого интереса.
Это же следует сказать и о работах другого сторонника «функционального» метода, американского этнографа Раймонда Фирса. Им исследован, например, небольшой полинезийский островок Тикопия (географически находящийся в Меланезии). Тикопия до сих пор мало затронута колонизацией, и быт островитян до Фирса не был никем изучен. Интерес представляют также книги Фирса об экономике маори Новой Зеландии и об экономике народов Полинезии.
В южной части Меланезии, на Новой Каледонии и на южных островах Новых Гебрид разложение туземной культуры под влиянием европейской колонизации идет быстрыми шагами. Те авторы, по преимуществу французы, которые имели возможность наблюдать быт туземцев в.первые десятилетия после французской оккупации острова (Де-Роша, Ледоир, Глрмон и др.), сообщают много интересного об их общественном строе и культуре. В 1911 г. Фриц Саразин на Новой Каледонии за много месяцев работы смог собрать главным образом антропологический материал и обследовать кое-какие древности, так как старый быт туземцев уже отошел в прошлое. Много фактического материала содержится в работах Мориса Леенгардта, миссионера, прожившего на Новой Каледонии более 25 дет, но и он описал лишь уходящий быт.
На северной окраине Меланезии еще и сейчас остается много совершенно неисследованных мест, где сохранился старый уклад. Новая Ирландия, за исключением южной своей части, до сих пор изучена очень плохо. О-ва Адмиралтейства начал обследовать еще Миклухо-Маклай, но последующие исследователи ограничивались знакомством с прибрежными местностями и мелкими островками. Из новых исследований надо отметить экспедицию американских этнографов Маргариты Мид и Рео Форчуна в 1928-1929 гг.: ими хорошо изучены система родства, религиозные верования, воспитание и умственное развитие детей. Внутренние районы большого острова до сих пор почти не исследованы. В 1914 г. два немецких исследователя впервые пересекли с юга на север этот остров и кратко его описали, но затем почти двадцать лет остров этот никем не посещался. Лишь в 1931 -1932 гг. немец Бюлер произвел несколько более подробное обследование населения внутренней части острова.
Что касается огромной Новой Гвинеи, то, хотя берега ее после Миклухо-Маклая обследовались довольно обстоятельно, но проникновение во внутренние области до сих пор идет черепашьими шагами. Многолюдное и свободолюбивое население Новой Гвинеи не желает подчиняться колонизаторам.
Если Маклай был пионером антропологического и этнографического изучения Новой Гвинеи, то начало лингвистического ее изучения, классификации аборигенов по языковым группам было положено лингвистом Фридрихом Мюллером: в 1876 г. он впервые обосновал деление языков Новой Гвинеи на две группы - папуасские и меланезийские языки. Но больше всех сделал для изучения обеих этих групп языков, в особенности папуасских, английский исследователь Сидней Рей, который неутомимо работал над ними с 1892 г. до самого конца своей жизни (ум. 1 января 1939). С. Рей окончательно установил (1922), что папуасские языкц образуют самостоятельную семью, не связанную родством с меланезийскими языками. Собственно же этнографические исследования Новой Гвинеи проводились, как и в других местах, либо миссионерами (Чалмерс, Холмс и др.), либо правительственными служащими (Вильфред Бивер и др.), либо специалистами-этнографами.
Наиболее ценны исследования отдельных племен, производившиеся специалистами-учеными. Около 1910 г. были впервые открыты во внутренней части западной половины острова пигмейские (малорослые) и весьма отсталые по культуре племена: одно из них обитает на южных склонах горы Голиаф, другое - на горе Тапиро. Последних открыл Раулинг и подробно описал Волластон. Позже на Новой Гвинее были открыты и другие малорослые племена. В 1910 г. Роберт Виллиамсон, юрист по специальности, подробно обследовал горное папуасское племя мафулу и обстоятельно его описал 2 . Племена группы киваи в области дельты р. Флаи исследовал Гуннар Ландтман, проведший там два года (1910-1912). Интересно описание племени банаро Рихарда Туривальда 2 ; уже не новичок в Меланезии, он провел у этого племени почти три года (1913-1915) и обнаружил совершенно своеобразную форму раннего родового строя, с оригинальным делением каждого рода на две половины, с характерными посвятительными обрядами и сложными родственными отношениями.
В западной части Новой Гвинеи этнограф Пауль Вирц подробнейшим образом описал большое племя маринд-аним, одно из самых примитивных на всем острове. Он нашел здесь ряд поразительных аналогий с общественным строем и культурой центральноавстралийских племен. Открытия эти позволяют наметить исторические связи между Новой Гвинеей и Австралией.
Большие неожиданности до сих пор хранит, очевидно, малоисследованная внутренняя часть острова. Сюда делаются только беглые разведочные рейсы. В 1921 г. Франк Гёрли проник на гидроплане в область верховьев р. Флай, куда почти не ступала нога европейца, но ограничился кратким и поверхностным сообщением. В 1926 г. открыты некоторые йлемена верховьев р. Раму. В 1932 г. в долине р. Вага (район горы Хаген) открыты неизвестные племена численностью около 200 тыс. Только в 1935 г. исследовано малорослое племя тапиро (район Мимика, Западный Ириан). В 1936-1937 гг. двое англичан-случайные для этнографии люди - пробрались в мало доступную область водораздела рек Флай и Сепик и дали очень интересное, вполне грамотное для неспециалистов, хотя и краткое, описание быта населения, указали названия и расселение племен. Все это свидетельствует о том, что во внутренних областях Новой Гвинеи науку до сих пор ожидают заманчивые, може1 быть, совсем неожиданные открытия. Там есть, несомненно, племена, еще не видавшие людей европейской культуры. Мы до сих пор даже не знаем, вся ли внутренняя часть острова заселена. Еще Миклухо-Маклай предполагал, что горы вдали от побережья, где он жил, не населены. Напротив, немецкий офицер Герман Детцнер, который, в годы первой мировой войны, скрываясь от англичан, скитался по горам Новой Гвинеи, нашел, что считавшиеся «необитаемыми» области на самом деле довольно густо заселены. Новейшие исследования показывают, что необитаемые районы действительно имеются (например, все нижнее течение р. Флай сразу же за береговой полосой), но они чередуются с местностями, достаточно и даже плотно заселенными.
Местные исследователи
Особого упоминания заслуживают местные исследователи. Как ни задавлено коренное население Океании колониальным гнетом, но в более развитых ее областях - на островах Полинезии - уже появилась своя немногочисленная интеллигенция. Из среды ее вышли и отдельные исследователи. Мировоззрение большинства из них находится под влиянием буржуазной идеологии. Они любят свой народ, но не видят для него выхода из тяжелого положения, в которое он поставлен колонизаторами, да и не понимают настоящих причин этого положения. Взоры их устремлены в далекое прошлое, которое они видят в романтически-идеализированных образах. Отсюда интерес к древностям, преданиям, мифам, старым верованиям.
В этом же направлении действуют и некоторые местные исследователи европейского или смешанного происхождения.
Еще в 1890-х годах новозеландский исследователь Перси Смит положил начало систематическому собиранию и изучению полинезийских генеалогий. Известно, что полинезийцы помнят свою генеалогию на десятки поколений назад. Некоторые полинезийские генеалогии, например на Маркизских островах, сохраняются на 115 поколений. Смит в 1898 г. выпустил книгу под названием «Гаваики - первоначальная родина маори», в которой выдвинул новую теорию и новые методы исчисления времени появления полинезийцев в Океании. Смит основал «Полинезийское общество» (1892), которое руководит сейчас всей этнографической работой в Полинезии и издает «Журнал Полинезийского общества» - важнейшее
периодическое издание по этнографии Океании. К 1955 г. вышло 63 тома этого журнала. Почти одновременно (1889) был основан в Гонолулу Музей Бишопа; его создал некто Чарлз Бишоп, который почти полвека прожил на Гавайях и основал этот музей в память своей жены, га- вайянки, принцессы Пауахи (по мужу Бишоп), последней представительницы королевского рода Камеамеа. Музей назван ее именем («Bernice Pauahi Bishop Museum»). Музей Бишопа организует систематические комплексные экспедиции по отдельным архипелагам Океании, изучая их этнографию, антропологию и археологию.
О маори Новой Зеландии с начала XX в. появилось несколько солидных монографий местных исследователей. Такова книга Треджира «Маорийская раса». Ему же принадлежит целый ряд новозеландских словарей и словари различных полинезийских диалектов. Из них особенной известностью пользуется «Маорийско-полинезийский сравнительный словарь» (1891). Еще более многочисленны и не менее ценны работы новозеландца Эльсдона Беста: из них самая крупная - сводный фундаментальный труд «Маори» (1924) в двух томах, где автор подытоживает все сведения по этнографии этого народа.
Наконец, самым выдающимся из современных исследователей Полинезии является, бесспорно, Питер Бак, сын маорийки и ирландца. Его маорийское имя - Те Ранги Хироа. Питер Бак получил университетское образование, служил медицинским инспектором, представлял маори в новозеландском парламенте, участвовал в первой мировой войне, много ездил по островам Полинезии и до своей недавней смерти (1950) был директором музея Бишопа в Гонолулу. Исследования Бака идут по двум путям: он собирал фольклор и предания (изучение облегчалось ему тем, что он с детства знал маорийские предания, которые рассказывала ему его бабка) и в то же время уделял особое внимание материальной культуре и археологии океанийских островов.
Те Ранги Хироа принадлежит несколько ценных монографий по отдельным архипелагам Полинезии (о-ва Кука, Самоа) и по некоторым частным вопросам. Результаты своих исследований он обобщил в книге, написанной в художественно-яркой и увлекательной форме. Несмотря на свою популярность, это подлинно научная сводка. Книга называется «Мореплаватели солнечного восхода» 1 . В ней он развивает мысль, что полинезийцы - лучшие мореплаватели мира, что они превзошли в этом отношении все остальные народы, и подробно, интересно и во многом убедительно прослеживает пути и направления их переселений.
Современное изучение народов Океании
После окончания второй мировой войны стало сказываться еще одно новое направление в этнографическом изучении островитян Океании: изучение их современного состояния и тех изменений, какие принесла с собой европейская колонизация и капиталистическая экономика. Это направление принято теперь в американской литературе называть «изучением аккультурации». Из работ об «аккультурации» наибольший интерес представляют: по Меланезии - книги Кирилла Белыпау; по Полинезии - работы супругов Биглхол, Хаусорна, Сё- зерленда, Кисинга, Бенгта Даниельсона. Содержательны также обобщающие труды У. Стэннера, JI. А. Мандера и др.
Современный этап изучения народов Океании характеризуется повышенным интересом к этой области со стороны американцев, что особенно проявилось во время второй мировой войны и в послевоенные годы. В США вышло и продолжает выходить большое количество книг, как специальных, так и популярных, посвященных Океании, ее экономике, быту и культуре населения. Их авторы ставят вопрос об отношении коренного населения Океании к европейско-американской «цивилизации», их «вестернизации» (т е. вовлечении в «западную» культуру перспективах будущего развития. Научные учреждения и капиталистические группы Америки охотно дают деньги на организацию научных экспедиций и исследований архипелагов Океании. Так как Полинезия в основном уже изучена, то на очередь поставлено исследование Микронезии, только что попавшей под американский контроль.
Николай Николаевич Миклухо-Маклай
m@s
Русский этнограф. Изучал коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании (1870-1880-е годы), в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи (ныне Берег Миклухо-Маклая). Выступал против расизма.
Миклухо-Маклай родился в семье инженера в селе Рождественском, близ города Боровичи Новгородской губернии. Николаю было одиннадцать лет, когда умер отец, оставивший семью в бедности. Мальчика отдали в школу, а затем во Вторую казенную гимназию в Петербурге.
В 1863 году он поступил вольнослушателем на физико-математический факультет Петербургского университете. В начале 1864 года Николай за участие в студенческих сходках был исключен из университета без права поступления в другие высшие учебные заведения России Миклухо-Маклай уехал в Германию. Два года он слушал лекции на философском факультете знаменитого Гейдельбергского университета в Германии, затем изучал медицину в Лейпциге и Йене. Это были годы напряженных занятий и тяжелой нужды. Здесь Миклухо-Маклай обратил на себя внимание знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, пропагандиста идей Дарвина.
В 1866 году Геккель взял 19-летнего студента в качестве ассистента в большое научное путешествие.
Мадейра, Тенерифе, Гран Канария, остров Ланцерот, Марокко, Гибралтар, Испания, Париж и, наконец, снова Йена - таков был маршрут первого путешествия Миклухо-Маклая.
В Йене он сближается с еще одним "дарвинистом", доктором Антоном Дерном, с которым работает на берегу Мессинского пролива, изучая ракообразных, морских губок и других животных. Изучив фауну Средиземного моря, молодой ученый отправился на берег Красного моря.
В марте 1869 года Николай Миклухо-Маклай появился на улицах города Суэца. Как истый мусульманин, выбрив голову, выкрасив лицо и облачившись в наряд араба, Маклай добрался до коралловых рифов Красного моря. Его видели в Суакине, Ямбо, Джидде и других местах. Потом Миклухо-Маклай не раз вспоминал, каким опасностям он подвергался. Он болел, голодал, не раз встречался с разбойничьими шайками. Впервые в жизни Миклухо-Маклай увидел рынки невольников, процветавшие в Суакине и Джидде.
Миклухо-Маклай прошел пешком земли Марокко, побывал на островах Атлантики, бродил по Константинополю, пересек Испанию, жил в Италии, изучил Германию.
Вернувшись в Петербург, Миклухо-Маклай под руководством академика Карла Бэра занялся изучением коллекции морских губок, привезенных русскими экспедициями с севера Тихого океана. Миклухо-Маклаю удалось установить, что все виды губок Берингова и Охотского морей можно свести к одному и тому же виду.
Однажды в руки Миклухо-Маклая попал труд Отто Финша "Новая Гвинея", изданный в Бремене. В своей книге Финш систематизировал многие чужие наблюдения о жизни далекой и загадочной страны.
Постепенно у Миклухо-Маклая сложилось убеждение в необходимости всестороннего исследования Тихого океана. Ему удалось убедить вице-председателя Русского географического общества адмирала Федора Литке добиться для него разрешения отправиться в Океанию на корвете "Витязь". Из средств Географического общества Миклухо-Маклаю выделили 1350 рублей. А нужно было не менее пяти тысяч. Чтобы набрать требуемую сумму, его мать, Екатерина Семеновна, продала ценные бумаги, заложила вещи.
В статье "Почему я выбрал Новую Гвинею?" (она была опубликована посмертно) Миклухо-Маклай писал, "что именно на этом малоизученном острове первобытные люди менее всего затронуты влиянием цивилизации и это открывает исключительные возможности для антропологических и этнографических исследований" .
Корвет русского военного флота "Витязь" вышел из Кронштадта в конце октября 1870 года. Миклухо-Маклай должен был ступить на его палубу в одном из больших портов, а пока он отправился в поездку по Европе. Он осматривал музеи, знакомился с учеными. Молодой зоолог испытал гордость, узнав, что его труды известны его новым друзьям и знакомым. Незадолго до этого в "Записках" Российской академии наук был напечатан его отчет об исследованиях губок Тихого океана, а в Лейпциге вышел труд Миклухо-Маклая по сравнительной анатомии - "Мозг позвоночных животных".
В Лондоне он встретился со знаменитым биологом и путешественником Томасом Гексли, изучавшим когда-то Новую Гвинею. Гексли выдвигал предположение об общности происхождения индонезийцев и древних обитателей Европы.
Во время плавания на корвете Миклухо-Маклай пересек Атлантический океан, побывал в Бразилии, в Чили, на некоторых архипелагах Полинезии и Меланезии. Всюду молодой ученый наблюдал, собирал материалы, совершал научные экскурсии.
20 сентября 1871 года Миклухо-Маклай высадился на берегу залива Астролябия, близ селения Бонга, на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Племена и селения были здесь разобщены и постоянно враждовали друг с другом; каждый чужеземец, будь он белый или черный, считался нежелательным гостем.
Миклухо-Маклай первым спустился в шлюпку, за ним последовали его слуги - швед-китобой Ульсен и молодой полинезиец Бой.
Миклухо-Маклай по тропинке среди дикого леса пришел в деревню. Она была пуста. Но возле деревни в густых кустах Миклухо-Маклай заметил первого папуаса Туя, застывшего от ужаса Миклухо-Маклай взял его за руку и привел в деревню. Вскоре вокруг иноземца столпилось восемь папуасских воинов с черепаховыми серьгами в ушах, с каменными топорами в смуглых руках, увешанных плетеными браслетами. Русский гость щедро одарил папуасов разными безделушками. К вечеру он вернулся на корабль, и офицеры "Витязя" с облегчением вздохнули: пока что "дикари" не съели Николая Николаевича.
В следующий раз, когда Миклухо-Маклай вновь съехал на берег, Туй вышел навстречу гостю. Так произошло первое сближение путешественника со страшными "людоедами". На берегу ручья, у моря, матросы и корабельные плотники срубили первый русский дом на Новой Гвинее - дом Маклая.
Ученые-офицеры с "Витязя" провели топографическую съемку местности Бухта с коралловыми берегами - часть обширного залива Астролябия - была названа порт Константин, мысы - именами топографов, делавших съемку, а ближайший остров получил имя Витязь.
"Витязь" продолжил плавание, а Миклухо-Маклай, Ульсен и Бой остались на берегу Новой Гвинеи.
Перед тем как впервые пойти в деревню Горенду, Миклухо-Маклай долго колебался, брать ли с собой револьвер. В конце концов, он оставил оружие в хижине, взяв лишь подарки и записную книжку. Папуасы не очень приветливо встретили белого человека. Они пускали стрелы над ухом иноземца, размахивали копьями перед его лицом. Миклухо-Маклай сел на землю, спокойно развязал шнурки башмаков и... улегся спать. Он заставил себя заснуть. Когда, проснувшись, Миклухо-Маклай поднял голову, он с торжеством увидел, что папуасы мирно сидели вокруг него. Луки и копья были спрятаны. Папуасы с удивлением наблюдали, как белый неторопливо затягивает шнурки своих ботинок. Он ушел домой, сделав вид, что ничего не случилось, да и случиться ничего не могло. Папуасы решили, что раз белый человек не боится гибели, то он бессмертен "Папуасы разных береговых и горных деревень, - писал Миклухо-Маклай, -почти ежедневно посещали мою хижину, так как молва о моем пребывании распространялась все далее и далее. Незнакомые с огнестрельным оружием, которое я им до того времени не показывал, чтобы не увеличить их подозрительности и не отстранить их еще больше от себя, и, предполагая большие сокровища в моей хижине, они стали угрожать убить меня. Я принимал их угрозы в шутку или не обращал на них внимания... Не раз потешались они, пуская стрелы так, что последние очень близко пролетали около моего лица и груди, приставляли свои тяжелые копья вокруг головы и шеи и даже подчас без церемоний совали острие копий мне в рот или разжимали им зубы. Я отправлялся всюду невооруженный, и индифферентное молчание и полное равнодушие к окружающим были ответом на все эти любезности папуасов. Я скоро понял, что моя крайняя беспомощность в виду сотен, даже тысяч людей была моим главным оружием".
Ученый вставал на рассвете, умывался родниковой водой, потом пил чай. Рабочий день начинался наблюдениями за приливной волной океана, измерением температуры воды и воздуха, записями в дневнике. Около полудня Миклухо-Маклай шел завтракать, а потом отправлялся на берег моря или в лес для сбора коллекций.
Миклухо-Маклай входил в хижины папуасов, лечил их, беседовал с ними (местный язык он освоил очень быстро), давал им всяческие советы, очень полезные и нужные. И спустя несколько месяцев жители ближних и дальних селений полюбили Миклухо-Маклая. Он всюду стал желанным гостем, что дало ему возможность вести различные этнографические и антропологические наблюдения. В результате Миклухо-Маклай ознакомился с бытом, обычаями, хозяйством, культурой и повседневным жизненным укладом папуасов. Опираясь на эти наблюдения, Миклухо-Маклай совершил величайшее открытие - открыл народ Новой Гвинеи.
Дружба с папуасами крепла. Все чаще Миклухо-Маклай слышал слова "Тамо-рус", так называли его между собой папуасы. "Тамо-рус" означало - "русский человек". Бывали дни, когда Миклухо-Маклая посещало до 40-50 человек. Обычным делом стал обмен. Миклухо-Маклай скоро заметил, что папуасы ценили в первую очередь те новые для них предметы, из которых они могли сразу же извлечь прямую пользу. Они довольно быстро приспособили бутылочное стекло для бритья взамен не столь острых осколков кремния.
Миклухо-Маклай свято чтил и уважал обычаи своих соседей. Число друзей быстро росло. Туй познакомил его со своим сыном Бонемом. Потом с Миклухо-Маклаем подружился поселянин из деревни Бонгу, по имени Бугай. Это он пустил по всему побережью слух, что Миклухо-Маклай не только "Тамо-рус", но и "Караан-тамо" - "человек с луны" или "лунный человек". Путешественник принимал в своей хижине туземцев с острова Витязь (Били-Били) и с небольшого островка Ямбомба.
Однажды Миклухо-Маклаю сообщили, что дерево упало на Туя и сильно ранило его в голову. "Тамо-рус" вылечил своего друга. Туй устроил пир в честь русского гостя и даже пожелал обменяться с ним именами. То же произошло однажды и на острове Витязь, где состоялось знакомство с влиятельным туземцем Каином.
Получив доступ в деревни, Миклухо-Маклай начал собирать коллекцию папуасских черепов. Черепа своих родственников папуасы выбрасывали обычно в кусты возле хижин, зато нижняя челюсть свято сберегалась подвешенной к потолку хижины. Ученому долго не удавалось найти целый череп.
Больше года прожил русский путешественник в хижине на берегу океана. Больной, часто голодный, он успел сделать многое: посадил в землю Новой Гвинеи семена полезных растений и вывел тыквы с Таити, бобы, кукурузу. Около его хижины прижились плодовые деревья. Многие папуасы сами приходили на его огород за семенами.
Миклухо-Маклай собирал коллекцию образцов волос папуасов и, чтобы не обидеть их, отрезал пряди своих густых волнистых волос и выменивал их на пучки черных волос папуасов. Благодаря этой мене они охотно давали Миклухо-Маклаю не только выстригать волосы, но и заодно делать антропометрические измерения Миклухо-Маклай установил, что волосы папуасов ничем не отличаются от волос европейцев.
Путешественник составил словарик наречия папуасов и обнаружил в районе горной деревни Теньгум-Мана знаки, вырезанные на деревьях. Миклухо-Маклай решил, что и среди папуасов есть зачатки письменности. "Тамо-рус" накопил бесценные наблюдения об искусстве и промыслах папуасов. Здесь он написал "Антропологические заметки о папуасах Берега Маклая в Новой Гвинее".
Миклухо-Маклай спас от смерти папуаса Саула, был свидетелем рождения и похорон папуасов, сидел почетным гостем на званых пирах. Он вникал в безутешное горе женщины Кололь, оплакивающей сдохшую свинью, которую она когда-то кормила своей грудью, как это было здесь зачастую принято. Папуасы верили, что при желании он способен прекратить дождь, а если рассердится, то может поджечь море. Однажды путешественник специально разыграл туземцев - подлил в блюдце со спиртом немного воды и зажег спирт. Рассказы об этом и подобных чудесах переходили из деревни в деревню, преодолевая языковые и племенные барьеры.
"Я готов остаться на несколько лет на этом берегу" , - писал он в своем дневнике.
Вокруг залива Астролябия, в окрестных горах жило не менее трех-четырех тысяч папуасов. Миклухо-Маклай по праву первооткрывателя жадно изучал страну. Он уже знал хорошо дороги в деревни Бонгу, Мало, Богатим, Горима, Гумбу, Рай, Карагум. Он поднимался в горы, плавал по заливам, открыл неизвестную реку, на которую ему указал Туй. Миклухо-Маклай вместе с Каином плавал на остров Тиар и нанес на карту архипелаг Довольных Людей и обширный пролив. Он открыл новый вид сахарного банана, ценные плодовые и масличные растения Тетради его были полны записей, заметок и рисунков, среди которых много портретов его друзей-папуасов Болезни, голодовки, змеи, ползающие по письменному столу, подземные толчки, сотрясающие хижину, - ничто не могло помешать Миклухо-Маклаю в его великом труде.
В декабре 1872 года в залив Астролябия зашел русский клипер "Изумруд" под командой Кумани. Папуасы проводили "Тамо-руса" грохотом барумов - длинных папуасских барабанов.
По ходу плавания на "Изумруде" Миклухо-Маклай получил возможность изучить народы Молуккских островов. Он совершает кратковременные экскурсии в Минахасу на острове Целебес (Сулавеси), побывал в Тидоре - столице одного из султанств на одноименном острове.
Воспользовавшись заходом "Изумруда" в Манилу, путешественник 22 марта 1873 года вместе с проводником плывет в лодке рыбака через обширный Манильский залив. После ночлега в деревне он идет в Лимайские горы и на краю лесной поляны находит наклоненные пальмовые щиты. Под ними укрывались от зноя или непогоды бродячие чернокожие негритосы, тайна происхождения которых еще не была разгадана учеными Рост их не превышал 1 метра 44 сантиметров. Недаром их и назвали "негритосами", по-испански - "маленькие негры".
Больше двух дней провел Миклухо-Маклай среди бродячего народа. Негритосы дали гостю пальмовый щит, и он укрывался на ночь этим навесом. Лаской и уговорами Миклухо-Маклай добился того, что негритосы позволили сделать измерения их голов. Туземцы даже разрешили иноземцу выкопать череп из могилы в горах близ деревни Пилар.
Миклухо-Маклая растрогала судьба забитых черных людей. Оттесненные малайцами в глубь лесов и гор, они скитались по дебрям, лишенные пищи и пристанища. Но эти маленькие люди заботились о детях, стариках, больных Здесь, на Филиппинах, Миклухо-Маклай совершил новое крупное открытие: негритосы вовсе не негры. Обычай, язык и другие признаки бесспорно указывали на их родство с папуасами.
Во второй половине мая 1873 года Миклухо-Маклай был уже на Яве. "Изумруд" ушел, а ученый остался. Однако в Батавии (ныне Джакарта) свирепствовала тропическая лихорадка, поэтому путешественник перебрался в Бюйтензорг (ныне Богор), расположенный довольно высоко в горах, в сравнительно здоровой и нежаркой местности. О нем написали колониальные газеты. Господин Джеймс Лаудон, генерал-губернатор Нидерландской Индии, пригласил русского ученого в свою резиденцию в окрестностях Бейтензорга.
Лаудон сделал все для того, чтобы Миклухо-Маклай мог отдыхать и работать на холме Бейтензорга. Дворец яванского наместника был расположен в центре знаменитого Ботанического сада. Семь месяцев провел здесь Миклухо-Маклай. Написав несколько статей о своем первом пребывании на Берегу Маклая, исследователь стал готовиться к новому походу. На этот раз он намеревался проникнуть на берег Папуа-Ковиай, на юго-западе Новой Гвинеи. Малайцы в один голос уверяли, что жители побережья Папуа-Ковиай - самые страшные людоеды и разбойники.
В декабре 1873 года Миклухо-Маклай прибывает в город Амбоина (ныне Амбон, Молуккские острова), расположенный на одноименном острове. Столица "гвоздичного царства" славилась на весь мир как место добычи дорогих пряностей. Миклухо-Маклай с увлечением наблюдал здесь местных жителей. Они представляли собой смесь малайцев с альфурами, арабами, китайцами и голландцами.
На большой морской лодке "урумбай", с экипажем в шестнадцать человек, Маклай отплыл с Молуккских островов и вскоре достиг берега Папуа-Ковиай. Здесь он открыл проливы Елены и Софии, исследовал местность и внес значительные исправления в старые карты побережья. В течение нескольких дней плавал он между мелкими островами в узких проливах в поисках удобного места для создания базы. Миклухо-Маклай построил хижину в красивом месте на мысе Айва. Отсюда открывался великолепный вид на море, на островки Айдума и Мавара. 8 марта 1874 года он записал в дневнике: "Наконец могу сказать, что я снова житель Новой Гвинеи".
Миклухо-Маклай бесстрашно двинулся в глубь Новой Гвинеи, поднялся на высокий горный хребет и увидел внизу озеро Камака-Валлар. В водах озера Миклухо-Маклай открыл новый вид губок, собрал коллекцию раковин. Близ островов Каю-Мера и Драмай был открыт мыс, который получил имя Лаудона. На островке Лакахия Миклухо-Маклай нашел выходы каменного угля. В заливе Телок-Кируру путешественник едва не подвергся нападению враждебно настроенных туземцев.
На острове Айдуме Миклухо-Маклай открыл любопытный вид кенгуру. У животного были крепкие когти. Кенгуру не скакал, как его австралийские собратья, а лазил по деревьям, где и проводил большую часть своего времени.
Экспедиция на берег Ковиай кончилась тяжелейшей болезнью, почти на месяц уложившей путешественника в постель и заставившей его отказаться от плавания на ближайшие к Новой Гвинее острова и вернуться на Яву.
В июне 1874 года в госпитале в Амбоине Миклухо-Маклая навестил командир британского военного судна "Василиск" Джон Моресби и подарил больному карту пути, пройденного "Василиском" вдоль северо-восточного края Новой Гвинеи. На ней значился Берег Маклая.
В августе 1874 года путешественник возвращается в Бюйтензорг, чтобы в конце года отправиться в путешествие по Малаккскому полуострову. Заручившись поддержкой у махараджи Джохорского, он двинулся вверх по реке Муар. Таинственные племена, обитающие внутри Малаккского полуострова, туземцы называют "оран-утан", то есть "человек леса". Миклухо-Маклай отправился искать диких оранов.
Первых "оран-утанов" Миклухо-Маклай встретил в лесах, на верховьях речки Палон. Пугливые, низкорослые, чернокожие люди проводили ночи на деревьях. Все их имущество состояло из тряпья на бедрах и ножа. Они скитались в диких лесах, давали своим детям имена в честь деревьев, добывали камфору, которую выменивали у малайцев на ножи и ткани. И они ничем не походили на малайцев, ростом напоминали негритосов Филиппин, а обликом - папуасов Новой Гвинеи. Миклухо-Маклай сделал достоянием науки места обитания меланезийцев Малакки, изучил их облик, образ жизни, верования и язык.
Пятьдесят дней пробыли путники в дебрях Джохора. Караван Миклухо-Маклая вспугивал стада диких вепрей. Устья рек кишели крокодилами. Приходилось идти по пояс в воде или плыть на лодке по затопленным лесам, между огромными пнями, поваленными стволами деревьев и крепкими лианами. Огромные змеи нередко пересекали дорогу Миклухо-Маклаю. Он писал свои заметки при свете факелов, питался дикими лимонами, спал в жилищах "оран-утанов". Ему удалось открыть горячие ключи, осмотреть старые оловянные копи на реке Ни-дао, собрать образцы таинственных ядов из растительных соков и зубов змей, которыми ораны отравляли свои стрелы.
Русла рек Сомброн и Индао привели Миклухо-Маклая к берегу моря. От устья Индао он повернул на юг и достиг знакомого пролива между Малаккой и Сингапуром. В феврале 1875 года он вновь объявился во дворце махараджи Джохорского. Миклухо-Маклая трясла лихорадка, он с трудом пересиливал слабость, но говорил о новом походе в глубь Малакки.
В июле-октябре того же года он совершил второе путешествие по Малаккскому полуострову. Но перед этим могущественный губернатор британской "Колонии Проливов и Сингапура" сэр Эндрю Кларк любезно пригласил Миклухо-Маклая в Бангкок - отдохнуть на корабле "Плутон", познакомиться с сиамской (таиландской) столицей. Русский путешественник с любопытством разглядывал пагоду Ват-Ченг, загоны для королевских слонов, храм Ксетуфона, где показывали след от ноги Будды, плавучий город на реке Менам, рынки. Вернувшись в Сингапур, он был гостем русского вице-консула Вампоа и жил в удобном домике в его саду.
Второе путешествие началось из Джохора. Маршрут был трудным. Носильщики, гребцы, проводники сменялись регулярно. Достигнув столицы Паханга, приморского города Пекана, Миклухо-Маклай двинулся к тропическим лесам княжества Келантан, где до него не бывал еще ни один белый человек. Миклухо-Маклай путешествовал на плоту, лодке, повозке, иногда на слонах, но больше - пешком. Он проходил до сорока километров в день. К северу от порожистого русла реки Паханг он увидел цепи высочайших гор Малакки с вершиной Гуну-Тахан.
В горных ущельях между странами Тренгану, Келантан и Паханг Миклухо-Маклай сделал замечательное открытие. Здесь он нашел меланезийские племена Малакки. Это и были "люди леса" - племена оран-семангов и оран-сакаев. В туземцах Джохора Миклухо-Маклай видел остатки первобытных меланезийских племен, когда-то населявших всю Малакку. Они были очень малорослы, темны кожей, но хорошо сложены и не по росту сильны. Ученого поражала крайняя неприхотливость оран-сакай, непрерывно менявших места ночлега и ограничивавшихся лишь возведением "пондо" - заслона из пальмовых листьев, который являлся сразу и стеной и крышей.
Сто семьдесят шесть дней пробыл путешественник на Малакке. От "людей леса" он ушел - через владения семи малайских князей - в богатый город Патани, побывал в стране Кедах, подвластной Сиаму, и закончил путешествие в городе Малакке.
В 1875 году Николай Николаевич в Бейтензорге закончил заметки о странствиях среди "людей леса". К тому времени русские картографы уже нанесли на карту Новой Гвинеи гору Миклухо-Маклая, близ залива Астролябии. Это был как бы прижизненный памятник - редкая честь для ученых. Но никто не знал, что столь знаменитый человек скитается уже много лет без крова, семьи, делает долги, чтобы с помощью занятых денег совершать свои опасные и далекие походы. Миклухо-Маклай часто не имел средств даже для того, чтобы заплатить за переписку своих статей. Болезни мешали засесть за большие книги. Приходилось ограничиваться предварительными сообщениями в батавийском научном журнале, письмами в Русское географическое общество.
В 1876-1877 годах он совершил путешествие в западную Микронезию и северную Меланезию, посетив острова Палау, Вуап (Яп) и архипелаг Адмиралтейства.
На легкой шхуне "Си Берд" ("Морская птица") Миклухо-Маклай отплыл из яванского порта Черибон. Путь его лежал к Целебесу, а оттуда - к разноцветным рифам Западных Каролин. В мае 1876 года он уже был на острове Яп. Миклухо-Маклай посетил деревню Киливит.
Россиянин побывал на многих островах. Всюду он вел дневники. Он посещал хижины, которые представляли собой нечто вроде клубов, - места собраний, ночных плясок и приют для гостей. В таких клубах можно было видеть огромные грубо обтесанные камни с отверстиями посередине, имевшие форму мельничных жерновов различной величины, иногда в несколько тонн весом. Это были деньги, так называемые "фе". Их вывозили сюда с островов Палау. Жернов, хранящийся в клубе, представлял собой собственность общины.
От базальтовых скал Палау шхуна проследовала к островам Адмиралтейства. Здесь произошла знаменательная встреча с большой туземной пирогой, мачта и рея которой были украшены человеческими скальпами. У многих поднявшихся на палубу корабля пожилых туземцев на спине или груди были привешены какие-то странные предметы вроде метелок. Тонкие ветки, собранные в пучок, были прикреплены к ручке, выточенной из берцовой кости человека Миклухо-Маклай первым открыл обычай ношения "руен-римата" - костей отца или ближайших родственников, если они были знатными или выдающимися людьми.
На островах Адмиралтейства Миклухо-Маклай сошел на неведомый тропический берег, в районе деревень Пуби и Лонеу. Он видел огромные барабаны из древесных стволов - "барумы". Он раздавал подарки, и островитяне позволяли делать измерения голов или сравнивать цвет их кожи с таблицей Поля Брока.
В последних числах июня 1876 года путешественник достиг Берега Маклая. Матросы выгрузили припасы, ящики, бочки, подарки для папуасов. Путешественник высадился на побережье возле Горенду. Все старые знакомые были живы. Папуасы очень радушно приняли "Тамо-русо". Корабельные плотники с помощью папуасов построили дом из крепкого строевого леса в окрестностях Бонгу. Новоселье путешественник справлял в кругу папуасов, двух слуг и повара.
Миклухо-Маклай не умел отдыхать. Спустившись к устью речки Морель, он покинул шлюпку и вскоре увидел четыре горные вершины. Он побывал в деревне Марагум-Мана, селе Рай и, наконец, пришел к берегу реки Гебенсу. Из горных деревень Миклухо-
Маклай приносил черепа, утварь и... вечную лихорадку. Несмотря на болезни, он продолжал сравнительно-анатомические исследования вновь открытых им видов животных Новой Гвинеи. Ему удалось описать людей и природу Берега Маклая на большом пространстве, миль по двести вокруг Бугарлома. Миклухо-Маклай в совершенстве изучил все обычаи папуасов, строение их семьи и общины, знал их язык, искусство. Он понимал, что вторжение белых неизбежно, поэтому задумал создать из деревень берега Маклая Папуасский союз и самому встать во главе его. Увы, русское правительство отказало ему в поддержке...
В ноябре 1877 года в залив Астролябия случайно зашла английская шхуна "Флауэр оф Ярроу". Миклухо-Маклай решил отправиться на ней в Сингапур - привести в порядок коллекции, засесть за книги и статьи о своих открытиях.
На прощание он созвал папуасов из всех окрестных деревень и предупредил их, что белые люди могут оказаться работорговцами и пиратами. Если же здесь появятся белые друзья, они подадут особый "знак Маклая", и тогда папуасы должны доверяться во всем братьям "Тамо-руса".
На Берегу Маклая ученый на этот раз прожил четырнадцать с половиной месяцев (с 27 июня 1876 по 10 ноября 1877 год).
Двухмесячное плавание на борту шхуны оказалось довольно тяжелым. Хотя Миклухо-Маклай и увидел по пути кое-что для себя новое (ему довелось стать свидетелем извержения вулканов на двух островках) и лишь отчасти повторил маршрут предыдущего плавания, он прибыл в Сингапур совершенно больным.
Пробыв полгода в Сингапуре, Миклухо-Маклай по настоянию врачей отправляется в Австралию.
В июле 1878 года он появился в Сиднее. Путешественника приютил сначала русский вице-консул Паули, а потом руководитель Австралийского музея Вильям Маклей, вместе с которым Миклухо-Маклай издал позже труд о хрящевых рыбах". Паули принес ученому целую кипу европейских и русских изданий.
О новогвинейских подвигах Миклухо-Маклая писал журнал "Космос", а "Глобус" помещал биографию путешественника. Поль Брока напечатал у себя в Париже маклаевскую статью об искусстве папуасов. Имя Миклухо-Маклая появилось на страницах англо-австралийского журнала "Аргус", а свои записки об островах Яп, Палау и архипелаге Адмиралтейства он увидел напечатанными в "Известиях" Географического общества.
Пять стран мира отдавали должное трудам Миклухо-Маклая. Но мало кто знал, что яванские и сингапурские купцы напоминали русскому ученому, что его долги достигли суммы в десять тысяч рублей в переводе на русские деньги.
Письма в Русское географическое общество, содержащие просьбы о помощи, остались без ответа. Литературный заработок был смехотворно мал. Миклухо-Маклая угнетали постоянные заботы о куске хлеба и средствах на научные работы, а тут, словно насмехаясь, кто-то даровал скромному Миклухо-Маклаю громкий титул "барона". Вскоре ученый перебрался на жительство в небольшую комнату при Австралийском музее.
Неутомимый исследователь устроил в Ватсон-Бей, около Сиднея, Морскую зоологическую станцию. Причем Николай Николаевич сам делал чертежи ее зданий, руководил постройкой и оборудованием.
Миклухо-Маклай замыслил новое путешествие, считая нужным расширить свое знакомство с Меланезией и посетить новые для себя места. Деньги на этот раз одолжил ему Вильям Маклей.
На рассвете 29 марта 1879 года он на шхуне "Сэди Ф. Келлер" покинул порт Джексон. Шкипер Веббер вез товары в город Нумею - главный порт Новой Каледонии.
Вот какого маршрута придерживался Миклухо-Маклай в это путешествие 1879- 1880 годов по Меланезии: Новая Каледония - острова Лифу - острова Адмиралтейства - архипелаги Ниниго и Луб - островок Андра - Соломоновы острова - архипелаг Луизиады - южный берег Новой Гвинеи - острова Торресова пролива - восточный берег Австралии.
Миклухо-Маклай побывал в самом сердце Океании, в местах, куда не отваживались проникать белые путешественники. Он провел двести тридцать семь дней на берегах неисследованных островов и сто шестьдесят дней в плавании по бурному морю. Основные результаты путешествия заключались в антропологической характеристике населения обследованных островов, в установлении связей и отличий между разными этносами, в исследовании многих обычаев.
После почти десятимесячного плавания по островам Меланезии шхуна стала на якоре в бухте одного из островов архипелага Луизиада. Миклухо-Маклай продолжил путешествие на пароходе "Элленгован", принадлежавшем лондонскому миссионерскому обществу. Судно направлялось к южному берегу Новой Гвинеи. Плавание растянулось на три месяца. Ученый выяснил, что на южном берегу Новой Гвинеи обитают те же папуасы, что и на Берегу Маклая, и на берегу Папуа-Ковиай.
Миклухо-Маклай вновь посетил острова Адмиралтейства, где наблюдал случаи людоедства. Но это не испугало его. Он спокойно бродил по деревням людоедов, ел туземный несоленый суп из мяса диких голубей и спал на открытом воздухе. Из "страны людоедов" он увез много рисунков, антропометрических измерений и составленный им словарь местного языка. Миклухо-Маклай побывал в порту Морсби, в юго-западной части Новой Гвинеи, и открыл тайну "желтых людей" побережья. Он установил, что в жилах этих папуасов текла кровь с полинезийской примесью: по-видимому, когда-то бурей или волнами сюда были занесены челны с жителями Полинезии. На Соломоновых островах и Луизиадах он проследил переходы от полинезийского к папуасскому типу и сделал наблюдения над жизнью темнокожих туземцев.
Миклухо-Маклай не скрывал своей тревоги за участь черных племен, ибо давно предвидел угрозу, нависшую над Океанией. Еще в 1881 году он записал в своей тетради: "...за миссионерами непосредственно следуют торговцы и другие эксплуататоры всякого рода, несущие с собой болезни, пьянство, огнестрельное оружие и т.д. Эти благодеяния цивилизации едва ли уравновешиваются умением читать, писать и петь псалмы..."
В 1881 году сиднейские газеты сообщили об убийстве миссионеров в деревне Кало, на южном берегу Новой Гвинеи. Предвидя кровавую расправу, Миклухо-Маклай отправился к коммодору Вильсону и заявил, что должны быть наказаны только зачинщики убийства. В ответ ученый получил предложение принять участие в карательной экспедиции. 21 августа Миклухо-Маклай на английском корвете прибывает в Порт-Морсби. Благодаря его заступничеству Вильсон отказался от сожжения папуасской деревни и поголовного истребления ее жителей. В короткой стычке погиб лишь убийца миссионера.
В 1882 году после двенадцати лет странствий Миклухо-Маклай вернулся в Петербург. Он стал героем дня. Газеты и журналы сообщали о его приезде, излагали биографию, останавливались на эпизодах его путешествий, выражали восхищение его подвигами. Ученые общества Москвы и Петербурга устраивали заседания в его честь. Главным событием были его публичные выступления, собиравшие громадную по тем временам аудиторию. В ноябре 1882 года Миклухо-Маклай имел встречу в Гатчине с Александром III.
Несколько лет в России пролетели быстро. Теперь маршрут путешественника лежал через Берлин – Гаагу – Париж - Лондон в Геную, где он намеревался сесть на один из пароходов, совершавших регулярные рейсы в Австралию. Он делает доклады в Берлине, Париже, Лондоне, встречается с учеными. В Париже Маклай побывал у писателя Тургенева, с которым был знаком еще с 1867 года.
В начале февраля 1883 года Миклухо-Маклай отплыл из Адена на Яву. В тропической Батавии он застал русский корвет "Скобелев" (бывший "Витязь") и убедил его капитана зайти по пути во Владивосток на Берег Маклая.
16 марта путешественник увидел пролив Изумруда, остров Кар-Кар, зеленый простор Берега Маклая... Дети и юноши выросли, только немногие старики были его добрыми приятелями. Многие умерли...
Русские матросы расчистили густой кустарник и посадили новые полезные растения - подарок Миклухо-Маклая папуасам. Он привез саженцы и семена тыкв, кофейного и цитрусового деревьев, манго, новые виды хлебного дерева "Тамо-рус" щедро раздавал своим друзьям куски красной китайки, малайские ножи, зеркала, бусы, топоры. С корабля на берег перевезли целое стадо домашних животных. Миклухо-Маклай закупил для папуасов еще в Амбоине коз, коров и горбатого бычка-зебу. Для них построили загон. При виде быка бедные папуасы кинулись на деревья.
Миклухо-Маклай, Каин и амбониец Ян совершают путешествие в туземной лодке по реке Аю, меж зарослей лиан и диких бананов. По руслу протока они достигают лесного озера Аю-Тенгей. Людоеды деревни Бомбаси приветливо встретили "лунного человека", о котором они так много слышали от жителей побережья. Миклухо-Маклая угощали вареными овощами. Папуасы рассказали гостю обо всех обычаях, связанных с людоедством...
В июне 1883 года путешественник прибыл в Сидней. Почти три года он провел в Австралии, и это были весьма нелегкие годы. Коттедж в парке Выставки, где он жил в свой последний приезд, сгорел. В пламени погибла часть многолетних работ Миклухо-Маклая и экспонаты. Путешественник перебрался в домик при Морской станции на берегу Ватсон-Бей. Там он жил одиноко, испытывая нужду.
В феврале 1884 года русский путешественник и ученый Николай Миклухо-Маклай женился на молодой вдове Маргарите Робертсон, дочери сэра Робертсона, бывшего премьер-министра Нового Южного Уэлса. Семья Робертсон жила в окрестностях Ватсон-Бея, в имении "Клобелли". Родители и родственники Маргариты противились этому браку, считая русского путешественника неподходящей партией для нее. В ноябре появляется на свет сын, через год - второй.
Миклухо-Маклай напряженно следил за событиями в мире. Он писал князю Бисмарку о том, чтобы "вообще все белые взяли на себя защиту прав темнокожих туземцев островов Тихого океана от бессовестной, несправедливой и зверской эксплуатации (похищение людей, рабство и т. п.)".
В 1884 году восточную часть Новой Гвинеи разделили Германия и Англия. Немцы закрепили за собой северо-восточную, англичане - юго-восточную четверть острова. Немецкие агенты, и в первую очередь Отто Финш, явившиеся на Берег Маклая по следам великого русского путешественника, подготовили этот захват.
В одном из своих сочинений немец Отто Финш сознался, что при захвате Новой Гвинеи он выдал себя за "брата Маклая". Недаром он так часто старался видеться с русским ученым. Ему был нужен "знак Маклая", чтобы с его помощью овладеть доверием папуасов. При всем своем величии Маклай часто бывал простодушен и ничего не скрывал, особенно когда дело касалось любимой науки.
Миклухо-Маклай писал английскому премьеру Гладстону, что "германский флаг в Тихом океане прикрывает самые бессовестные несправедливости: кражи и обман, работорговлю и грабеж" . 9 января 1885 года он из Мельбурна отправил Бисмарку телеграмму: "Туземцы Берега Маклая отвергают германскую аннексию" . В тот же день он послал телеграмму Александру III, умоляя русского царя заступиться за папуасов.
На немецких картах появляются новые названия: Земля императора Вильгельма, архипелаг Бисмарка, Новый Мекленбург, Новая Померания, Гавань Финша. Немцы овладели Соломоновыми островами и Маршальским архипелагом.
Путешественник возвращается в Петербург. Немецкие газеты клевещут: Миклухо-Маклай нашел в Новой Гвинее золото, но скрыл это, чтобы завладеть им без лишних свидетелей; Миклухо-Маклай хочет объявить протекторат России над островами Тихого океана... Сплетню подхватили некоторые русские газеты.
Он был измучен постоянной борьбой за право на спокойный труд. Болезни подорвали его силы. Только после долгих хлопот и мучений открылась его выставка в Петербурге. Она прошла с грандиозным успехом. Миклухо-Маклай открыл для России мир Океании, показал родине жизнь далеких племен, их искусство, промыслы, обычаи. Он вплотную подошел к истокам происхождения человеческого рода.
В 1886 году Миклухо-Маклай снова отправился в Сидней. Он ехал туда за семьей, коллекциями, материалами. По пути он побывал в Аделаиде, описал железную дорогу Аделаида - Мельбурн, разузнал все, что касалось замечательного опыта австралийца Джемса Брауна по насаждению эвкалиптов в бесплодных пустынях.
В Сиднее он разбирает свои бумаги... Шестнадцать записных книжек, шесть толстых тетрадей, планы, карты, собственные рисунки, газетные вырезки, журнальные статьи, дневники разных лет. Миклухо-Маклай хотел для начала подготовить два тома: первый - о Новой Гвинее, второй - о Малакке и островах Океании.
В феврале 1886 года Миклухо-Маклай покинул Австралию и в апреле прибыл в Россию. Из Одессы он сразу же направился в Ливадию, где добился приема у Александра III. Он предложил царю основать русское поселение на Берегу Маклая. Александр III поручил новогвинейское дело специальной комиссии; комиссия отвергла проект Миклухо-Маклая, и царь вынес вердикт: "Считать это дело конченным. Миклухо-Маклаю отказать".
Последние месяцы 1886 года были заполнены работой над дневниками новогвинейских путешествий. Миклухо-Маклай продолжал ее урывками и в 1887 году. К началу 1888 года путевые дневники всех шести путешествий на Новую Гвинею были, в общем, готовы. Он приступил к работе над вторым томом, но слег окончательно. Больному не разрешали работать, отняли даже карандаш и тетради. Тогда Николай Николаевич стал диктовать свою автобиографию. Радость его была безмерна, когда он получил только что отпечатанную свою книжку "Отрывки из дневника 1879 года".
Последние дни жизни Миклухо-Маклай провел в клинике Виллис при Военно-медицинской академии. Главное свое богатство - мозг - он завещал русской науке, ей же - свои бумаги, коллекции, все написанное и напечатанное им.
Миклухо-Маклай умер на больничной постели в 9 часов 30 минут пополудни в субботу 2 апреля 1888 года. Хоронили его на Волковом кладбище. На незаметной могиле великого сына русской земли поставили деревянный крест с короткой надписью.
Профессор Модестов сказал на свежей могиле, что отечество хоронит человека, который прославил Россию в далеких углах необъятного мира, и что этот человек был одним из самых редких людей, когда-либо появлявшихся на нашей старой земле.
Вклад Миклухо-Маклая в антропологию и этнографию был огромным. В своих путешествиях он собрал множество данных о народах Индонезии и Малайи, Филиппин, Австралии, Меланезии, Микронезии и западной Полинезии. Как антрополог Миклухо-Маклай проявил себя борцом против всех "теорий", постулирующих расовое неравенство, против концепций "низших" и "высших" рас. Он первым описал папуасов как определенный антропологический тип. Ученый показал, что папуасы такие же полноценные и полноправные представители человеческого рода, как англичане или немцы.
Истинное открытие народов Новой Гвинеи началось в 70-х годах XIX в., и оно теснейшим образом связано с именем великого русского путешественника гуманиста Николая Николаевича Миклухо-Маклая. «Самое характерное для Миклухо-Маклая,- пишут его биографы Я.Я. Рогинский и С.А. Токарев,- это поразительное сочетание в его лице черт смелого путешественника, неутомимого исследователя-энтузиаста, широко эрудированного ученого, прогрессивного мыслителя-гуманиста, энергичного общественного деятеля, борца за права угнетенных колониальных народов. Подобные качества порознь не составляют особой редкости, но сочетание всех их в одном лице - явление совершенно исключительное. Поставив главной задачей своей жизни изучение народов Тихого океана, в особенности папуасов и близких к ним темнокожих племен, Миклухо-Маклай, однако, никогда не смотрел на них только как на объект научного наблюдения. Он видел в них живых людей, людей иной культуры и иного уровня развития, чем народы Европы, но людей, имеющих свои неотъемлемые права на существование и развитие. И он никогда не уставал защищать их права всеми доступными ему средствами».
В наши дни, когда газеты каждый день приносят вести о бесчинствах расистов в Алабаме, Гарлеме и городах и селениях Южной Африки, особенно значительными кажутся требования Миклухо-Маклая «признать за представителями этих [угнетенных] рас права людей, согласиться, что истребление темных рас не что иное, как применение грубой силы, и что каждый честный человек должен восстать против злоупотребления ею».
Н.Н. Миклухо-Маклай родился в 1846 г. в Новгородской губернии. В 1863 г. он поступил вольнослушателем в С.-Петербургский университет и в начале 1864 г. был исключен из него за участие в студенческих сходках. Миклухо-Маклай уехал в Германию, где в Лейпциге и Иене прошел курс медицины и зоологии. В 1866-1869 гг. Миклухо-Маклай побывал на Канарских островах, в Скандинавии, на Сицилии и на берегах Красного моря; возвратившись в 1869 г. в Россию, он в следующем году отправился на корвете «Витязь» в Новую Гвинею.
В статье «Почему я выбрал Новую Гвинею?» (она была опубликована посмертно) Миклухо-Маклай писал, что именно на этом малоизученном острове первобытные люди менее всего затронуты влиянием цивилизации и это открывает исключительные возможности для антропологических и этнографических исследований.
И вот 20 сентября 1871 г. Миклухо-Маклай высадился на берегу залива Астролябия, близ селения Бонга, на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Племена и селения были здесь разобщены и постоянно враждовали друг с другом; каждый чужеземец, будь он белый, или черный, считался нежелательным гостем. Вражду, недоверие, подозрительность Миклухо-Маклай преодолел благодаря своей выдержке, мужеству, воле и исключительно гуманному отношению к островитянам.
«Папуасы разных береговых и горных деревень,- писал Миклухо-Маклай,- почти ежедневно посещали мою хижину, так как молва о моем пребывании распространялась все далее и далее… Незнакомые с огнестрельным оружием, которое я им до того времени не показывал, чтобы не увеличить их подозрительности и не отстранить их еще больше от себя, и, предполагая большие сокровища в моей хижине, они стали угрожать убить меня… Я принимал их угрозы в шутку или не обращал на них внимания… Не раз потешались они, пуская стрелы так, что последние очень близко пролетали около моего лица и груди, приставляли свои тяжелые копья вокруг головы и шеи и даже подчас без церемоний совали острие копий мне в рот или разжимали им зубы. Я отправлялся всюду невооруженный, и индифферентное молчание и полное равнодушие к окружающим были ответом на все эти любезности папуасов…». «Я скоро понял,- говорил впоследствии Миклухо-Маклай,- что моя крайняя беспомощность в виду сотен, даже тысяч, людей была моим главным оружием».
Это была мужественная и активная беспомощность. Ведь Миклухо-Маклай не избегал общения с папуасами - напротив, он входил в их хижины, лечил их, беседовал с ними (местный язык он освоил очень быстро), давал им всяческие советы, очень полезные и нужные. И спустя несколько месяцев Миклухо-Маклая горячо полюбили жители ближних и дальних селений. Он всюду стал желанным гостем, а это дало ему возможность беспрепятственно вести различные этнографические и антропологические наблюдения. В результате Миклухо-Маклай ознакомился с бытом, обычаями, хозяйством, материальной культурой и повседневным жизненным укладом папуасов. Опираясь на эти бесценные наблюдения, Миклухо-Маклай совершил величайшее открытие - открыл народ Новой Гвинеи. Его же предшественники наносили на карты лишь контуры огромного острова, который в сущности оставался до 1871 г. «страной в себе», «почти материком», населенным никому не ведомыми племенами.
В декабре 1872 г. в залив Астролябия зашел русский клипер «Изумруд», и на нем Миклухо-Маклай обошел Молуккские, Зондские и Филиппинские острова. Это путешествие продолжалось свыше года. В 1874 г. Миклухо-Маклай снова отправился на Новую Гвинею, на этот раз на берег Папуа-Ковнай, в западной части острова. Возвратившись в конце июля 1874 г. в столицу Нидерландской Ост-Индии Батавию, Миклухо-Маклай направил резкий меморандум генерал-губернатору, обличая голландские власти в прямом попустительстве разбоям и работорговле.
Весь 1875 г. Миклухо-Маклай провел на островах Малайского архипелага и на Малаккском полуострове, а в 1876-1877 гг. он совершил путешествие в западную Микронезию и северную Меланезию, посетив острова Палау, Яп и архипелаг Адмиралтейства, и второй раз побывал на Береге Маклая, где прожил на этот раз четырнадцать с половиной месяцев (с 27 июня 1876 по 10 ноября 1877 г.).
Старые друзья папуасы с исключительным радушием приняли Миклухо-Маклая, и с их помощью он детально обследовал значительный участок северо-восточного берега Новой Гвинеи. На случайно зашедшей в залив Астролябия английской шхуне Миклухо-Маклай в ноябре 1877 г. отправился в Сингапур. На прощание он созвал папуасов из всех окрестных деревень и предупредил их, что, «вероятно, другие люди, такие же белые, как и я, с такими же волосами и в такой же одежде прибудут к ним на таких же кораблях… но очень вероятно, это будут совершенно иные люди, чем Маклай». Он рекомендовал им соблюдать меры предосторожности при общении с белыми людьми и разъяснил им, что люди эти могут оказаться работорговцами и пиратами.
Н.Н. Миклухо-Маклай
Пробыв полгода в Сингапуре, Миклухо-Маклай возвратился в Россию, а в конце 1878 г. отправился в Сидней, где прожил четыре года. Живя в Сиднее, Миклухо-Маклай дважды посетил южный берег Новой Гвинеи и совершил на шхуне «Сэди Ф. Келлер» путешествие по Меланезии (по маршруту Новая Каледония - Новые Гебриды - острова Банкса - острова Адмиралтейства - острова Тробриан - Соломоновы острова). И снова он поднял голос протеста против гнусной системы работорговли, которая с ведома британских властей процветала в Западной Океании.
В 1882 г. Миклухо-Маклай возвратился в Россию и совершил затем поездку по Европе, а в начале 1883 г. опять отправился в Океанию. Он посетил в марте 1883 г. Берег Маклая в третий и последний раз и в июне этого же года прибыл в Сидней. Почти три года провел он затем в Сиднее, и это были весьма нелегкие годы.
Уже на Береге Маклая он мог убедиться, что пророчество его сбывается. Деревня Бонгу лежала в развалинах, следы опустошения явственно были видны повсеместно на побережье. Здесь побывал британский комиссионер западной части Тихого океана - Ромильи; он прибыл на Берег Маклая для «охоты на черных птиц». Черными птицами агенты плантаторов называли папуасов и меланизийцев, ловля которых была в те годы весьма прибыльным промыслом. Ромильи назвался братом Маклая и, завоевав доверие простодушных папуасов, захватил большую партию рабов.
Но «визит» Ромильи был лишь предвестием грядущих бед. В 1884 г. восточную часть Новой Гвинеи «полюбовно» разделили два хищника: Германия и Англия. Немцы закрепили за собой северо-восточную, англичане - юго-восточную четверть острова.
Напрасно Миклухо-Маклай писал английскому премьеру Гладстону, что «германский флаг в Тихом океане прикрывает самые бессовестные несправедливости: кражи и обман, работорговлю и грабеж». Напрасно посылал он протесты Бисмарку, напрасно 9 января 1885 г. он из Мельбурна отправил Бисмарку телеграмму: «Туземцы Берега Маклая отвергают германскую аннексию». Напрасно в тот же день он послал вторую телеграмму Александру III, умоляя русского царя заступиться за папуасов. Напрасно он направил третью телеграмму русскому министру иностранных дел Гирсу с просьбой признать «независимость Берега Маклая». В Берлине уже печатали карты,. на которых «немецкая» Новая Гвинея была показана как «Земля кайзера Вильгельма». Немецкие агенты, и в первую очередь Отто Финш (о нем см. стр. 287-288), явившиеся на Берег Маклая по следам великого русского путешественника, подготовили этот захват.
В феврале 1886 г. Миклухо-Маклай покинул Австралию. Из Одессы он сразу же направился в Ливадию, где добился приема у Александра III. Он предложил царю основать русское поселение на Береге Маклая. Александр III поручил новогвинейское дело специальной комиссии; комиссия отвергла проект Миклухо-Маклая, а 9 декабря царь изъявил свою высочайшую волю: «Считать это дело конченным. Миклухо-Маклаю отказать».
25 сентября 1886 г. Л. Н. Толстой писал Миклухо-Маклаю: «Вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, то есть доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой».
14 апреля 1888 г. великий русский путешественник скончался в Петербурге, в клинике Виллие, после долгой и мучительной болезни.

Маршруты путешествий Миклухо-Маклая. Из «Атласа истории географических открытий и исследований». 1959 г.
Великий научный подвиг Миклухо-Маклая не получил должной оценки ни при жизни путешественника, ни в первые десятилетия после его смерти. Только в советское время было издано собрание трудов Миклухо-Маклая и подведены итоги его исследований.
Вклад Миклухо-Маклая в антропологию и этнографию был огромным. Выдающееся значение имеют не только его поистине пионерские исследования народов Новой Гвинеи: в своих путешествиях Миклухо-Маклай собрал множество данных о народах Индонезии и Малайи, Филиппин, Австралии, Меланезии, Микронезии и западной Полинезии. Как антрополог Миклухо-Маклай проявил себя борцом против всех «теорий», постулирующих расовое неравенство, против концепций «низших» и «высших» рас. Он первым описал папуасов как определенный антропологический тип; папуасы, говорит Миклухо-Маклай,- это смышленые и изобретательные люди, которые в силу определенных географических и исторических условий в неприкосновенности сохранили те формы жизненного уклада и хозяйственной деятельности, через которые европейцы прошли несколько тысяч лет назад. Миклухо-Маклай показал, что папуасы такие же полноценные и полноправные представители человеческого рода, как англичане или немцы.
Миклухо-Маклай привез на родину богатые коллекции, которые ныне хранятся в Музее антропологии и этнографии Академии наук СССР в Ленинграде.
Н.Н. Миклухо-Маклай положил начало углубленным исследованиям народов Новой Гвинеи и Меланезии. Дальнейший ход этих исследований Новой Гвинеи был, однако, не слишком быстрым. Колониальные власти - нидерландские, германские и австрало-британские, захватив прибрежные области Новой Гвинеи, мало интересовались ее внутренними горными районами.
Миклухо-Маклай
Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился 17 июля 1846 г. в с. Рождественское Новгородской губернии в семье инженера. Вскоре после рождения сына отец умер, оставив семью в бедности.
Окончив гимназию, Н.Н. Миклухо-Маклай в 1863 г. поступил вольнослушателем на физико-математический факультет Петербургского университета, однако в 1864 г. за участие в студенческом движении был отчислен без права поступления в высшие учебные заведения России.
Естественно-научное образование Миклухо-Маклай получил в период 1864-68 гг. в университетах Германии (Гейдельберг, Лейпциг, Йена). В 1869 г. Миклухо-Маклай вернулся в Россию и продолжил начатые им в Германии зоологические исследования по сравнительной анатомии морских губок и др.
Однако вскоре Миклухо-Маклай решил коренным образом изменить направление своих исследований. Его привлекли этнографические проблемы, и он решил организовать экспедицию на Новую Гвинею: «…именно на этом малоизученном острове первобытные люди менее всего затронуты влиянием цивилизации, и это открывает исключительные возможности для антропологических и этнографических исследований».
В сентябре 1871 г. Миклухо-Маклай высадился на берегу залива Астролябия на северо-восточном берегу Новой Гвинеи (теперь это место на географических картах называется «Берег Маклая»). Оставшиеся семнадцать лет жизни Н.Н. Миклухо-Маклай посвятил изучению коренного населения Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Помимо Новой Гвинеи он посетил Малакку, Филиппины, Индонезию, острова Микронезии и Меланезии.
Благодаря своим человеческим качествам и умению входить в контакт с незнакомыми людьми, Миклухо-Маклаю удалось не только подружиться с туземцами, но и убедить их не сопротивляться антропологическим исследованиям.
На основании многолетних наблюдений жизни, быта и взаимоотношений местных жителей, а также своих этнографических и антропологических исследований Миклухо-Маклай опроверг бытовавшую в то время точку зрения о том, что папуасы (негроидные народы Юго-Восточной Азии) являются представителями особого вида, отличного от других рас человечества. Он доказал, что народы Юго-Восточной Азии отстали в своем развитии только в силу исторических причин, но по своим способностям стоят не ниже европейцев. Кроме того, во время своих многочисленных путешествий Миклухо-Маклай сделал ряд важных географических открытий.
Вклад Миклухо-Маклая в этнографию и антропологию был огромным и получил широкое признание в научном мире. Как общественный деятель он активно выступал против «теорий», утверждающих расовое неравенство, и против экономического и духовного порабощения народов Океании. В частности, он писал: «За миссионерами непосредственно следуют торговцы и другие эксплуататоры всякого рода, несущие с собой болезни, пьянство, огнестрельное оружие и т. д. Эти благодеяния цивилизации едва ли уравновешиваются умением писать и петь псалмы…». Как борец с колонизацией и физическим уничтожением коренного населения колоний Миклухо-Маклай обращался не только в печать, но и к руководителям ведущих стран мира (Бисмарку, Александру III и др.), но одинокий голос энтузиаста-ученого остался неуслышанным.
Еще при жизни Миклухо-Маклай и его труды были известны во всем мире, газеты и журналы печатали его биографию и выдержки из его сочинений, сотни людей собирались на его лекции, ученые общества устраивали заседания в его честь.
В 1886 г. Н.Н. Миклухо-Маклай вернулся в Россию и последние два года жизни работал над оформлением результатов своих путешествий.
2 апреля 1888 г. Миклухо-Маклай скончался в больнице, в возрасте 42 лет. Поразительно, сколько он успел сделать за эти 42 года.
Значение жизни и трудов Н.Н. Миклухо-Маклая прекрасно выражено в письме к нему Л.Н. Толстого: «Мне хочется сказать Вам следующее: если Ваши коллекции очень важны, важнее всего, что собрано до сих пор во всем мире, то и в этом случае все коллекции Ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которые Вы сделали, поселившись среди диких и войдя в общение с ними и воздействуя на них одним разумом… Ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, – в науке о том, как жить людям друг с другом».